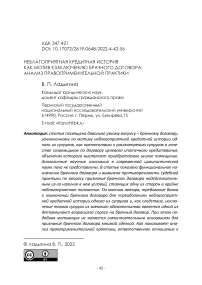Неблагоприятная кредитная история как мотив к заключению брачного договора: анализ правоприменительной практики
Автор: Ладыгина В.П.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Частноправовые (цивилистические) науки
Статья в выпуске: 4, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена довольно узкому вопросу - брачному договору, заключенному по мотиву неблагоприятной кредитной истории одного из супругов, как препятствию к рассмотрению супругов в качестве созаемщиков по договору целевого ипотечного кредитования, объектом которого выступает приобретаемое жилое помещение. Аналогичные научные изыскания в современной цивилистической науке пока не представлены. В статье показано функциональное назначение брачного договора и выявлена противоречивость судебной практики по вопросу признания брачного договора недействительным из-за наличия в нем условий, ставящих одну из сторон в крайне неблагоприятное положение. По мнению автора, требование банка о заключении брачного договора для «преодоления» неблагоприятной кредитной истории одного из супругов и, как следствие, исключение такого супруга из заемного обязательства является одной из детерминант возросшего спроса на брачный договор. При этом подобная мотивация не является самостоятельным основанием для признания брачного договора мнимой сделкой. Как показывает анализ правоприменительной практики, ответственное отношение к договорным обязательствам, в том числе обязательствам из брачного договора, не характерно для современного российского общества, где сохраняется инфантилизм сторон брачного договора, а также низкий уровень правовой культуры.
Брачный договор, неблагоприятная кредитная история, ипотека, недвижимое имущество, договорный режим, недействительная сделка, мнимая сделка, кабальная сделка
Короткий адрес: https://sciup.org/147239312
IDR: 147239312 | УДК: 347.421 | DOI: 10.17072/2619-0648-2022-4-42-56
Текст научной статьи Неблагоприятная кредитная история как мотив к заключению брачного договора: анализ правоприменительной практики
Б рачный договор как инструмент индивидуального договорного регули‐ рования имущественных отношений супругов не снискал большой по‐ пулярности в российской правовой действительности в сравнении с европей‐ скими странами, что традиционно объясняется особенностями национально‐ го менталитета1. Однако, по данным Федеральной нотариальной палаты, вот уже несколько лет подряд количество заключенных брачных договоров не‐ уклонно растет и показывает тенденцию к дальнейшему увеличению. Так, количество заключенных в России брачных договоров за 2020 год увеличи‐ лось на 26 % и составило более 142,5 тыс. обращений, достигнув своего ре‐ кордного показателя2. Более 73 тыс. брачных договоров заключили россий‐ ские семейные пары с начала 2021 года, и это на 40 % больше показателя за аналогичный период 2020 года3. Очевидно, что детерминанты возрастающе‐ го спроса на брачный договор обусловлены разными обстоятельствами, за‐ висящими от индивидуальных особенностей семейных пар, вступающих в договорные отношения. Однако среди таких определяющих факторов есть и сложившиеся в практике объективные обстоятельства, вынуждающие суп‐ ругов к заключению брачного договора. К числу таких обстоятельств относит‐ ся требование банка о заключении брачного договора как условии предос‐ тавления ипотечного кредита.
Функциональное назначение брачного договора: традиции и новации
Подметим, что, несмотря на стабильность нормативной основы брачно‐ го договора и отсутствие на протяжении всего действия главы 8 «Договорный режим имущества супругов» Семейного кодекса Российской Федерации4 (да‐ лее – СК РФ) каких‐либо изменений соответствующих нормативных положе‐ ний, тематика брачного договора не перестает привлекать внимание ученых‐ юристов5. Очевидно, что подобное положение научных дел обусловлено раз‐
_______________________________ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ ными обстоятельствами. Но одной из детерминант столь пристального внима‐ ния к институту брачного договора является возникновение у него функциона‐ ла под воздействием нотариальной и правоприменительной практики.
Традиционный функционал брачного договора связан с изменением законного режима имущества супругов. Временной интервал действия брач‐ ного договора определен двумя периодами: периодом брака с момента его заключения и до момента его прекращения и периодом расторжения брака. Как показывает практика, функциональная ценность брачного договора про‐ является главным образом в рамках второго периода. Находясь в браке, суп‐ руги так или иначе способны урегулировать возникающие между ними иму‐ щественные вопросы путем согласования, однако расторжение брака, как правило, кардинальным образом меняет качество взаимоотношений сторон брачного договора, и доверие друг к другу сменяется доверием юридиче‐ скому документу. Как известно, брачный договор может быть заключен и до вступления в брак, однако его действие функционально обусловлено режи‐ мом брака, и по этой причине он начинает действовать только с момента го‐ сударственной регистрации такого акта гражданского состояния.
При самом общем подходе к оценке функционального назначения брачного договора ему может быть предписана одна функция – идентифика‐ ция имущественных прав и обязанностей супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Однако при более скрупулезном толковании роли брачного договора эта функция может быть поделена на определенное количество микрофункций, отражающих основные мотивы к его заключению. В частно‐ сти, супруги прибегают к такому инструменту, как брачный договор, если мо‐ тивированы желанием «укрепить» режим личной собственности в отноше‐ нии имущества каждого из них, минуя тем самым действие положений статьи 37 СК РФ (особенно в части имущества, приобретенного до брака, по‐ лученного в дар, в том числе от родителей одного из супругов); изменить принцип равенства долей в общем имуществе, если вклад одного из супругов в совместно наживаемое имущество значительно превышает вклад другого; сохранить в целостности бизнес, принадлежащий одному из супругов, в том числе на случай расторжения брака, и т.д.
Ахиллесовой пятой нормативной основы брачного договора выступает специальное основание для признания его недействительным – пункт 2 ста‐ тьи 44 СК РФ. Речь идет об условиях брачного договора, ставящих одну из его сторон в крайне неблагоприятное положение. Отрадно, что указанная тема‐ тика сама по себе достаточно изучена. Однако в рамках настоящего научного изыскания нас интересует более узкий вопрос – о возможности признания брачного договора недействительным на том основании, что, устанавливая режим раздельной собственности в отношении квартиры, приобретаемой в том числе с использованием средств ипотечного кредитования, такой брач‐ ный договор своими условиями ставит одну из его сторон в крайне неблаго‐ приятное положение.
Проблематика применения пункта 2 статьи 44 СК РФ обусловлена как противоречивой судебно‐арбитражной практикой, так и оценочным характе‐ ром термина «крайне неблагоприятное положение». Суть обозначенной проблематики заключается в том, что условие брачного договора, создаю‐ щее раздельный режим в отношении всего или конкретного имущества, на‐ житого в браке, априори ставит стороны этого договора в неравное имущест‐ венное положение6. Получается, что любой брачный договор, изменяющий законный режим имущества супругов, потенциально несправедлив, потен‐ циально ставит одного из супругов в неблагоприятное положение и потенци‐ ально может быть признан недействительным. Думается, что это не совсем так. Брачный договор – это инструмент индивидуального регулирования имущественных отношений супругов, которые вступают в соответствующие договорные отношения своей волей и в своем интересе. Договорный режим допускает изначальное неравенство имущественных прав супругов, прибегая к которому стороны брачного договора, пользуясь свободой договора, изъ‐ являют волю на создание именно такой архитектуры их внутренних имущест‐ венных взаимоотношений. Заметим, что определенность нормы пункта 2 ста‐ тьи 44 СК РФ была предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Итогом соответствующего рассмотрения стала квалификация спорной нормы в качестве «описательно‐оценочной»7.
Несмотря на обозначенные выше рассуждения, подметим, что суды крайне непоследовательны в вынесении решений по данной категории дел. Так, в одном из случаев суд удовлетворил требование истицы о признании брачного договора, устанавливающего режим раздельной собственности супругов, недействительным, применив пункт 2 статьи 44 СК РФ и мотивиро‐ вав свое решение следующим образом: поскольку после расторжения брака истица осталась без какого‐либо имущества в силу режима раздельной соб‐ ственности, постольку условия брачного договора поставили ее в крайне не‐ благоприятное положение, о чем она узнала только тогда, когда расторгла брак и поняла, что не имеет прав в отношении какого‐либо имущества, нажи‐ того в браке8. При оценке этой ситуации, доводов истицы и условий брачного договора нам представляется, что решение суда основано на неверном при‐ менении норм материального права. Создавая такой инструмент, как брач‐ ный договор, вероятно реципированный из иностранных юрисдикций, отече‐ ственный законодатель имел намерение создать такие правовые условия, при которых супруги могли бы в бесконфликтном режиме согласовать любой отличный от законного режим имущества, нажитого в период брака. Поэтому последующее признание брачного договора недействительным лишь на том основании, что супруга остается «ни с чем», противоречит цели принятия со‐ ответствующего корпуса норм, посвященных брачному договору.
В другом аналогичном случае тот же суд вынес прямо противополож‐ ное и, как нам кажется, справедливое решение. Заключенный между супру‐ гами брачный договор предусматривал режим раздельной собственности в отношении имущества, которое будет приобретено в браке. После того как стороны этого брачного договора расторгли брак, супруг (истец) обратился в суд с требованием признать брачный договор недействительным по при‐ чине его заключения «под влиянием обмана». По мнению истца, обман сво‐ дился к тому, что супруга, находясь в браке с истцом, оформляла все приоб‐ ретаемое имущество на свое имя, в связи с чем после расторжения брака истец остался без какого‐либо имущества и оказался в крайне неблагоприят‐ ном положении. Отказывая в иске, суд пояснил, что, находясь в браке, супру‐ ги имели равные юридические возможности на приобретение имущества и его оформление на имя каждого из супругов. При этом заключение брачного договора есть акт, которым стороны не просто приобретают определенные имущественные права и обязанности, а берут на себя ответственность за
ЛАДЫГИНА В. П. ______________________________________________________________ возможные, в том числе неблагоприятные, последствия, которые никак не связаны с действительностью соответствующего брачного договора9.
Как справедливо отмечается в научной литературе, признание брачно‐ го договора недействительным по мотиву наличия в нем условий, ставящих одну из сторон в крайне неблагоприятное положение, в 99 % случаев связано с расторжением брака между сторонами. При этом на момент заключения брачного договора, устанавливающего режим раздельной собственности, соответствующее условие полностью устраивает обе стороны обязательства, а на момент расторжения брака, при обострении межличностных отноше‐ ний, брачный договор становится одной из его сторон «невыгоден»10. Выше‐ приведенные рассуждения позволяют сделать однозначный вывод о необ‐ ходимости полного отказа от нормы пункта 2 статьи 44 СК РФ и дачи соответствующих разъяснений со стороны высшей судебной инстанции отно‐ сительно возможности/невозможности признания брачного договора, за‐ ключенного по мотиву неблагоприятной кредитной истории одного из супру‐ гов, недействительной сделкой, поскольку аналогичные правоотношения касаются неограниченного круга заинтересованных лиц.
Действительность/недействительность брачного договора, заключенного по требованию банка: анализ судебной практики
Постановка вопроса о действительности/недействительности сделки, содержанием которой выступает брачный договор, предопределена соответ‐ ствующими спорами, возникающими в правоприменительной практике. Предлагаем анализ некоторых из них.
Гражданка (далее – истец) обратилась в суд с требованием о при‐ знании заключенного между нею и гражданином (далее – ответчиком) брач‐ ного договора недействительным, квалифицируя его как мнимую сделку. Существо возникшего спора было связано с условием брачного договора, согласно которому квартира, расположенная по адресу: г. N, ул. N, кв. N, с кадастровым номером NNN, приобретаемая в том числе за счет средств ипо‐ течного кредита, признается собственностью одного из супругов – ответчика – и, ввиду данного обстоятельства, приобретается на его имя. При этом по усло‐ виям кредитного договора исполнение кредитного обязательства возлагалось исключительно на супруга – ответчика. Последнее было предопределено тем, что супруги по данному договору не рассматривались как созаемщики.
Истица, настаивая на мнимости брачного договора, отмечала, что его заключение было обусловлено требованием банка, который по причине не‐ благоприятной кредитной истории истицы отказался от рассмотрения супру‐ гов в качестве созаемщиков и предложил оформить брачный договор, по ус‐ ловиям которого спорная квартира приобретается в личную собственность ответчика. По мнению истицы, существо возникших правоотношений не со‐ ответствует фактическим отношениям ввиду того, что спорная квартира при‐ обреталась на совместные средства супругов, а также на средства ипотечного кредита, который супруги, находясь в браке, выплачивали совместно.
Ответчик сообщил суду, что при заключении брачного договора с исти‐ цей в отношении приобретаемой им спорной квартиры его волеизъявление было направлено на приобретение квартиры в личную собственность. Всту‐ пая в кредитные обязательства, ответчик осознавал, что является единствен‐ ным должником, и по этой причине в ноябре 2011года за счет собственных средств досрочно погасил кредит в полном объеме. Истица в погашении кредита личного участия не принимала.
По мнению же истицы, суд дал неверную оценку представленным до‐ казательствам, в том числе показаниям свидетелей, в качестве которых вы‐ ступили работники банка, пояснившие, что спорная квартира приобреталась для семьи, а приобретение квартиры в личную собственность ответчика было связано с неблагоприятной кредитной историей истицы. Кроме того, истица заявила, что первоначальный взнос на приобретение спорной квартиры со‐ стоял из накопленных общих средств супругов, чему суд не дал надлежащей оценки. Также истица заявила, что условия брачного договора ставят ее в крайне неблагоприятное положение, поскольку ее единственным местом жительства является спорная квартира.
Отказывая в иске, суд мотивировал свою позицию следующим обра‐ зом: при заключении брачного договора волеизъявление супругов было направлено на приобретение спорной квартиры в индивидуальную собст‐ венность ответчика, для чего между ответчиком и банком был заключен договор ипотечного кредитования. Ввиду обозначенных обстоятельств спорный брачный договор не может быть квалифицирован как мнимая сделка. При этом суд пояснил, что ему не было представлено доказа‐ тельств, свидетельствующих о том, что заключение брачного договора фак‐ тически было направлено на достижение иного правового результата. До‐ казываемый истицей факт вступления в договорные отношения с ответ‐ чиком исключительно по причине наличия у нее неблагоприятной кредит‐ ной истории является мотивом к заключению брачного договора, но не влияет на действительность/недействительность соответствующей сделки, поскольку не имеет правового значения11.
Из анализа представленной спорной ситуации неочевидно содержание фактических отношений, сложившихся между супругами. Однако описанная ситуация – распространенная в банковской практике история. Имея неблаго‐ приятную кредитную историю, один из супругов вынужден «самоустранить‐ ся» от участия в обязательстве, основанием возникновения которого является ипотечный кредит. Единственным правовым инструментом, позволяющим в описанной ситуации оформить соответствующие отношения, выступает брач‐ ный договор. Банк, рассматривая супругов как созаемщиков и обнаружив неблагоприятный статус кредитной истории одного из супругов, предлагает заявителям заключить брачный договор в установленном законом порядке и при условии предоставления брачного договора сообщает о предваритель‐ ном одобрении ипотечного кредита. Сто́ит отметить, что в описанной ситуа‐ ции брачный договор заключается, как правило, только в отношении кварти‐ ры, приобретаемой в ипотеку. То есть супруги, имея такую правовую возможность, не включают в текст брачного договора распоряжения, касаю‐ щиеся иного их имущества, поскольку, вероятно, не преследуют цели устано‐ вить режим раздельной собственности на приобретенное или планируемое к приобретению имущество. Содержательно брачный договор, заключенный по требованию банка, касается квартиры, планируемой к приобретению, то есть направлен на урегулирование вопросов в отношении конкретного буду‐ щего недвижимого имущества, поскольку на момент заключения брачного договора супруги, как правило, еще не вступили в соответствующие договор‐ ные отношения, обусловленные покупкой квартиры и ипотечным кредитом. Таким образом, требование банка о заключении брачного договора выступа‐ ет условием предоставления ипотечного кредитования, а желание получить ипотечный кредит на обозначенных банком условиях – мотивом к заключе‐ нию сделки, содержанием которой выступает брачный договор.
Рассмотрим другую ситуацию, имевшую место в судебной практике. Бывший супруг (далее – истец) обратился в суд с иском к бывшей супруге (далее – ответчица) с требованием о признании заключенного между ними брачного договора недействительной сделкой, а также с иными требова‐ ниями. Истец пояснил суду, что в период нахождения в браке им и ответчи‐ цей было нажито совместное имущество, в том числе квартира (далее – спорная квартира), которая приобреталась с привлечением средств ипотеч‐ ного кредита. В период, предшествующий приобретению спорной кварти‐ ры, истец и ответчица заключили брачный договор, касавшийся только этой квартиры. Заключение брачного договора было мотивировано исключи‐ тельно условием банка, который не мог признать супругов созаемщиками по причине плохой кредитной истории истца. Супруги заключили брачный договор на условиях приобретения спорной квартиры в личную собствен‐ ность ответчицы и признания ипотечного кредита в отношении спорной квартиры личным обязательством ответчицы. Как пояснил истец, между супругами на тот момент сложились хорошие взаимоотношения: приобре‐ тая квартиру на ответчицу, они не думали о прекращении брака и разделе совместно нажитого имущества. При этом, по мнению истца, заключая брачный договор, он и ответчицане имели намерения породить те право‐ вые последствия, которые возникают из такого рода сделок: единственной целью вступления в соответствующие договорные отношения являлось по‐ лучение ипотечного кредита по причине отсутствия в достаточном количе‐ стве собственных средств на приобретение жилья. В период брака истец и ответчица совместными усилиями погасили долг по ипотечному кредиту ответчицы в полном объеме. Как считает истец, заключенный между ним и ответчицей брачный договор является мнимой сделкой, то есть сделкой, совершенной лишь для вида, без намерения породить те правовые послед‐ ствия, которые возникают в результате вступления в соответствующие дого‐ ворные отношения. Как доказательства мнимости брачного договора истец привел следующие факты: во‐первых, вскоре после заключения брачного договора ответчица приобрела спорную квартиру в ипотеку; во‐вторых, брачный договор непосредственным образом связан с договором ипотеч‐ ного кредита, на что имеется прямое упоминание в тексте брачного дого‐ вора; в‐третьих, условия брачного договора ставят истца в крайне неблаго‐ приятное положение, что является специальным условием для признания брачного договора недействительным.
Отказывая истцу в иске, суд дал следующие небезынтересные поясне‐ ния. Во‐первых, семейным законодательством не предусмотрены специаль‐ ные сроки исковой давности по отношениям, вытекающим из заключения, исполнения или прекращения брачного договора. Стало быть, на брачный договор распространяются общие положения о сроках исковой давности по недействительным сделкам (ст. 181 Гражданского кодекса РФ12). Поскольку срок исковой давности по требованию о применении последствий недейст‐ вительности ничтожной сделки составляет три года и начинает течь с мо‐ мента исполнения соответствующей сделки, то есть с момента исполнения брачного договора, то в спорной ситуации истец этот срок пропустил. Во‐ вторых, исчисление срока исковой давности по основанию, указанному в пункте 2 статьи 44 СК РФ, начинается с момента, когда супруг, поставлен‐ ный условиями брачного договора в крайне неблагоприятное положение, узнал или должен был узнать, что реализация брачного договора именно на этих условиях ставит его в крайне неблагоприятное положение. В данном случае о том, что спорная квартира исключена из режима совместной собст‐ венности и ни при каких обстоятельствах не может быть признана общей со‐ вместной собственностью, в том числе в случае расторжения брака, истец узнал в момент заключения брачного договора, условия которого были разъ‐ яснены ему нотариусом. Следовательно, и по этому основанию срок исковой давности оказался пропущен. В‐третьих, заключенный между сторонами брачный договор не может быть признан мнимой сделкой, поскольку при его заключении присутствовал нотариус, однозначно пояснивший правовые по‐ следствия заключаемой сделки: государственную регистрацию спорной квар‐ тиры на имя ответчицы, подчинение спорной квартиры режиму личной соб‐ ственности ответчицы, распоряжение ответчицей спорной квартирой по своему усмотрению без нотариального согласия супруга13.
Как следует из анализа данного примера из судебной практики, Ново‐ сибирский областной суд пошел по пути наименьшего сопротивления и отка‐ зал в иске на основании пропуска срока исковой давности. Сто́ит признать, что суд дал оценку действительности/недействительности заключенного ме‐ жду сторонами спора брачного договора, акцентировав внимание на роли нотариуса в процедуре заключения соответствующей сделки. Действительно, признание нотариально удостоверенных сделок, в том числе и брачного до‐ говора, недействительными несколько затруднено. Известно, что заключе‐ нию подобной сделки предшествует основательная подготовительная работа со стороны нотариуса и иных сотрудников нотариальной конторы: выясняет‐ ся дееспособность сторон сделки, уточняется их свободное намерение поро‐ дить конкретные правоотношения, объясняются правовые последствия за‐ ключения соответствующей сделки. Кроме того, проект брачного договора, как и подавляющего большинства нотариальных сделок, готовится нотариу‐ сом – лицом, имеющим высшее юридическое образование и профессио‐ нальный стаж. Поэтому включение нотариусом в текст брачного договора условий, заведомо ставящих одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, скорее всего, редкое исключение. Хотя подобная практика име‐ ется. Так, в одном из дел суд признал брачный договор недействительной сделкой именно по пункту 2 статьи 44 СК РФ. Заключение этого брачного до‐ говора было мотивировано требованием банка, который отказал истице в одобрении ипотечного кредита в связи с наличием у последней на иждиве‐ нии несовершеннолетнего ребенка. Интересно, что, вынося решение в поль‐ зу истицы о признании брачного договора недействительным, суд мотивиро‐ вал свою позицию тем, что в силу сложившихся неблагоприятных обстоя‐ тельств, понудивших истицу к заключению брачного договора, предметом которого, кстати, явилась квартира, приобретаемая в ипотеку, истица заклю‐ чила кабальную сделку14. Таким образом, брачный договор был признан именно кабальной, а не мнимой сделкой.
Выводы как основа дальнейших научных изысканий
Подробное исследование приведенных выше примеров из правопри‐ менительной практики позволяет сформулировать ряд общих выводов, мо‐ гущих стать основой для последующих доктринальных изысканий в рамках обозначенной тематики.
Первое. Зачастую брачный договор оформляется исключительно с це‐ лью получения ипотечного кредитования, что продиктовано соответствую‐ щими требованиями банка. При этом детерминантой такого условия банка выступает неблагоприятный статус кредитной истории одного из супругов, не позволяющий банку рассматривать супругов в качестве созаемщиков. Ус‐ ловия такого брачного договора, как правило, касаются лишь конкретной квартиры, приобретаемой в личную собственность одним из супругов, и об‐ ращены в будущее. Следовательно, мотивом к заключению брачного догово‐ ра выступает получение соответствующего кредита. Возможно, этим обстоя‐ тельством обусловлен стойкий рост спроса на брачный договор среди российских семей за последние несколько лет в связи с повышением спроса на ипотечные банковские продукты (особенно с государственной поддержкой).
Второе . Зачастую стороны брачного договора, заключенного по мотиву получения ипотечного кредитования, предпринимают попытку признания брачного договора недействительным по мотиву его мнимости. Однако в доказательство мнимости сделки стороны ошибочно ссылаются лишь на мо‐ тив вступления в соответствующие договорные отношения – получение одоб‐ рения по ипотечному кредиту, – не имеющий в данном случае правового зна‐ чения. Доказывая мнимость брачного договора, сторонам следует привести доводы, свидетельствующие о совершении сделки лишь для вида, без наме‐ рения создать соответствующие ей правовые последствия. Однако ключевая ошибка таких заявителей, стремящихся к признанию брачного договора не‐ действительным, состоит в том, что они неверно определяют правовые по‐ следствия, возникающие в результате заключения брачного договора. Между тем правовыми последствиями являются следующие конкретные обстоятель‐ ства: заключение договора ипотечного кредита только в отношении одного из супругов; регистрация перехода права собственности на недвижимое имуще‐ ство только на имя этого супруга; исполнение обязанностей, вытекающих из договора ипотечного кредита, только силами того супруга, на чье имя приоб‐ ретена недвижимость; распоряжение приобретенным недвижимым имущест‐ вом по усмотрению его единоличного собственника, в том числе без получе‐ ния нотариального согласия второго супруга. Поэтому стороне брачного договора, заключенного по мотиву неблагоприятной кредитной истории, мож‐ но рекомендовать оспаривать брачный договор не по специальному основа‐ нию – пункту 2 статьи 44 СК РФ, и даже не по мотиву его мнимости, а по такому общему основанию, как кабальность соответствующей сделки, не забывая при этом про сроки исковой давности, которые начинают течь с момента исполне‐ ния брачного договора, поскольку, как верно отмечается в научной литерату‐ ре, основания, по которым стороны намерены признать брачный договор не‐ действительным, должны существовать смомента его заключения15.
Третье . Стороны брачного договора, единственным мотивом к за‐ ключению которого выступает неблагоприятная кредитная история одного из супругов, оказываются в небезынтересной ситуации. Первоначально, ко‐ гда их супружеские отношения складываются благоприятно, супруги всту‐ пают в договорные отношения в некоторой степени фиктивно. По крайней мере, они квалифицируют заключаемый ими брачный договор как мнимую сделку, не порождающую для них никаких правовых последствий, кроме получения желаемого ипотечного кредита. По этой причине, видимо, они продолжают считать (или надеяться), что приобретаемое ими в ипотеку не‐ движимое имущество де‐факто составляет их совместный актив. Будучи в доверительных отношениях, супруги понимают, что в любое время полю‐ бовно разрешат возникшие разногласия, а о расторжении брака в этот мо‐ мент они не задумываются. С течением времени или при изменении каче‐ ства супружеской связи, в том числе в результате расторжения брака, супруги (бывшие супруги), осознав, что полюбовное разрешение имущест‐ венных разногласий не представляется возможным, апеллируют к право‐ вой, в том числу судебной, защите. Они мотивируют свою позицию тем, что, вступая в договорные отношения со своим теперь уже бывшим супругом, в действительности не имели искреннего намерения породить соответст‐ вующие правовые последствия. Здесь важно понимать, что, вступая в дого‐ ворные отношения, обусловленные брачным договором, супруги заявляют перед неограниченным кругом третьих лиц и в первую очередь перед своими кредиторами, что они создали договорный режим в отношении конкретного имущества. Добросовестность сторон сделки, основанием ко‐ торой выступает брачный договор, предполагается. Однако с изменением субъективных обстоятельств стороны брачного договора наивно полагают, что условия брачного договора можно «переиграть». Подобное поведение детерминировано инфантилизмом сторон брачного договора, а также низ‐ ким уровнем правовой культуры. Еще со времен Древнего Рима действовал известный принцип “pacta sunt servanda”16, который не утратил своей акту‐ альности и в современных условиях гражданского оборота. Поэтому остает‐ ся надеяться на «взросление» российского общества и ответственное отно‐ шение к взятым на себя договорным обязательствам, а также на обеспечение единства правоприменительной практики по данному во‐ просу.
Список литературы Неблагоприятная кредитная история как мотив к заключению брачного договора: анализ правоприменительной практики
- Астапова Т. Ю. Реализация принципа равенства прав супругов в брачном договоре // Нотариус. 2019. № 5. С. 21-23.
- Бакаева И. В. Договорный режим имущества супругов: брачный договор // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 1. С. 12-17.
- Волос А. А. Слабая сторона брачного договора // Нотариус. 2018. № 4. С. 26-29.
- Ганичева Е. С. Правовая оценка условий брачного договора об установлении режима раздельной собственности супругов на имущество, которое может быть приобретено после его заключения // Комментарий судебной практики / отв. ред. К. Б. Ярошенко. М.: Юрид. Фирма "Контракт", 2019. Вып. 25. С. 42-54.
- Побережный С. Г. Нотариально удостоверенный брачный договор как вид нотариального акта и доказательственная презумпция при защите прав супругов // Нотариус. 2018. № 5. С. 29-35.
- Румак В. Б. Потенциал Семейного кодекса не используется до конца: интервью с М. В. Антокольской // Закон. 2018. № 6. С. 6-16.
- Сокол П. В., Сокол А. П. Институт брачного договора в России и во Франции: компаративистский анализ // Нотариальный вестник. 2021. № 6. С. 47-56.
- Черепанова О. С. Крайне неблагоприятное положение супруга как основание признания брачного договора недействительным // Нотариус. 2022. № 1. С. 24-27.
- Швец А. В., Чубукина А. Е. Правовая природа брачного договора // Нотариус. 2022. № 1. С. 28-31.