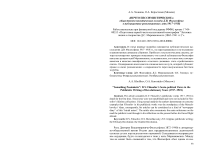"Нечто пессимистическое": общественно-политические взгляды Д. В. Философова в публицистике революционных лет (1917-1918)
Автор: Холиков Алексей Александрович, Коростелев Олег Анатольевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (44), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые подробно освещаются публицистические выступления Д.В. Философова 1917-1918 гг., не переиздававшиеся и не входившие в прижизненные авторские сборники. Прибегая к текстологическому анализу, ав-торы на конкретных примерах показывают, что в своей публицистике Философов выступал рупором идей Мережковских, а следовательно, его статьи могут восприниматься в качестве своеобразного «газетного дневника» этого «тройственного союза». Одновременно воссоздаются основные вехи на пути, который публицист прошел в своих размышлениях о современности перед вынужденным бегством за рубеж.
Д.в. философов, д.с. мережковский, з.н. гиппиус, публицистика, февральская революция, октябрьская революция
Короткий адрес: https://sciup.org/14914762
IDR: 14914762 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00004
Текст научной статьи "Нечто пессимистическое": общественно-политические взгляды Д. В. Философова в публицистике революционных лет (1917-1918)
Роль Дмитрия Владимировича Философова (1872-1940) в литературно-общественной жизни России двух предреволюционных десятилетий остается до сих пор недостаточно оцененной. Складывается несправедливое ощущение, будто он находился в тени у четы Мережковских. Между тем не может быть сомнений в том, что Философов «был одним из вы- дающихся деятелей русской литературы и культуры в период, ограниченный 1899 и 1919 годами» [Дюррант 1994,444]. Достаточно вспомнить, что именно он определял литературную политику журнала «Мир искусства», редактировал «Новый путь», был одним из организаторов петербургских Религиозно-философских собраний (1901-1903), а с 1909 г. стал председателем Религиозно-философского общества в Санкт-Петербурге (Петрограде) (1907-1917).
До эмиграции Философов опубликовал более тысячи статей и заметок на разные темы. Из них по литературным вопросам - около двухсот [Коростелев 2010 а, 3-21], [Коростелев 2010 Ь, 644-658]. Незначительная часть вошла в три прижизненных сборника: «Слова и жизнь: литературные споры новейшего времени (1901-1908 гг.)» (СПб., 1909), «Старое и новое: сборник статей по вопросам искусства и литературы» (М., 1912), «Неугасимая лампада: статьи по церковным и религиозным вопросам» (М., 1912).
Полная библиография критико-публицистического наследия Фило-софова еще не составлена. Наш особый интерес к статьям 1917-1918 гг. вызван не только широко отмечаемым 100-летним юбилеем революционных событий, но и тем, что, во-первых, важнейшие из более ранних работ Философова уже переизданы [Философов 2004], [Философов 2010], а во-вторых, следующий - эмигрантский - период его творчества - совсем иной двадцатилетний этап журналистской и общественно-политической деятельности, связанный с редактированием ряда варшавских газет, организацией Общества русско-польского сближения, формированием русских отрядов при польских войсках, попытками воздействия на Пилсудского, руководством местного отделения савинковского «Народного Союза Защиты Родины и Свободы». По признанию родной сестры Философова, З.Н. Ратьковой-Рожновой, «Дима - редкое явление, пример преображения одного человека в другого - до революции и после. До революции Дима -эстет в том понимании, которое было принято в девятнадцатом веке. Все то, что было красотой, касалось ли это морального или материального, было для него божеством. Мама говорила, что Дима мог защищать картину с оружием в руке. Идеалист был, идеалистом и остался, но после революции в Варшаве родился другой Дима. На некоторое время искусство перестало существовать для него, борьба с людским злом интересовала его полностью...» [цит. по: Дюррант 1994, 445].
Несмотря на отсутствие всех необходимых комплектов периодики революционных лет, нам удалось выявить чуть более ста статей и заметок Философова 1917-1918 гг. И хотя на исчерпывающую полноту этот список не претендует, тем не менее основные публикации в нем по возможности учтены. Большинство из них вышло в кадетской «Речи», наиболее культурной газете того времени (кадеты считали культуру частью своей программы), с которой Философов постоянно сотрудничал с 1908 г. и до самого ее закрытия большевиками и даже позже, когда она выходила в октябре 1917 - августе 1918 под другими названиями («Наша речь», «Сво- бодная речь», «Век», «Новая речь», «Наш век»), З.Н. Гиппиус вспоминала: «Д<митрий> Ф<илософов> тоже много писал - главным образом в “Речи”, органе умеренных ка-дэ (конституционалистов-демократов), к которым он ближе стоял, чем Д<митрий> С<ергеевич>» [Гиппиус-Мережковская 1951, 187]. В одной из статей Философов признался: «Я лично (если это кому-нибудь интересно знать) никогда не принадлежал к кадетской партии. Я просто рядовой сотрудник “Речи”, во многом ей симпатизирующий, особенно в ее честном отношении к обороне, в ее борьбе с демагогией, с погромной агитацией. Никогда кадеты не стояли на задних лапках перед физической силой, никогда не потакали стихии. И это мне дорого» [Философов 1917, 5 (18) сентября, 1-2]. (Здесь и далее в ссылках на газетные публикации дата выпуска указывается полностью, включая число и месяц).
В содержательном отношении собранные публикации весьма «разношерстны», что вообще было характерно для Философова, за исключением третьего прижизненного сборника его статей по церковным и религиозным вопросам. Принципиальной разницы между многообразными видами своих писаний он не делал. Материалом для статьи или заметки могло послужить что угодно: книга об оккультизме, перепись увечных воинов, выставка работ М.С. Наппельбаума, съезд преподавателей словесности или же свечной съезд, положение беспризорных детей, заседание Временного совета Российской республики и т.п. В сущности, Философов был по преимуществу даже не журналистом, а именно газетчиком, откликавшимся на все и вся и часто не делая скидку на масштаб описываемых явлений. При этом значительное место в его текстах занимает выяснение отношений с изданиями идейных оппонентов - «Правдой», «Новой жизнью», «Делом народа». И если в бытность «Мира искусства» «представить себе Философова в каком-либо соприкосновении с политикой и, следовательно, с “толпой” и чуть ли не “чернью” было решительно невозможно» [Перцов 2002, 210], то с начала 1917 г. его уклон в политическую публицистику стал особенно ощутим.
Прежде чем обратиться к публичным высказываниям Философова по актуальным политическим вопросам, приведем запись Гиппиус из ее «Черной книжки» (1919):
«Мы, т.е. я, Мережковский и Философов, а также некоторые друзья наши, склонялись как писатели к идейным сторонам общественного вопроса. Не входя ни в одну из политических партий, мы, однако, имели касание почти ко всем. В той, которой мы наиболее сочувствовали, у нас было много давних друзей, задолго до войны мы сблизились с некоторыми эмигрантами (между прочим, с Савинковым), с которым мы поддерживали постоянные сношения. Это была партия социалистов-революционеров. Несмотря на плохо разработанную идеологию, эта казалась нам наиболее органической, наиболее отвечающей русским условиям. За соц.-революционерами, как народниками, стояло уже свое историческое про- шлое. Что касается партии социал-демократической, - партии, сравнительно новой в России, лишь после 1905 года оформившейся у нас по западным образцам и уже расколотой на большевиков и меньшевиков, то самая основа ее - экономический материализм, - была нам, и некоторой части русской интеллигенции, особенно чужда (как и самому русскому народу - казалось нам). Все десять лет мы вели с ней последовательную, очень внутреннюю, идейную борьбу» [Гиппиус 1999, II, 181].
Как известно, события Февральской революции разворачивались непосредственно на глазах у Философова, который за пять лет до этого вместе с Мережковскими переехал из знаменитого дома Мурузи на Сергиевскую улицу, 83 (кв. 17). Произошло это еще в 1912 г. По воспоминаниям Гиппиус, «взяли квартиру первую попавшуюся: очень большую на Сергиевской, у самой решетки Таврического сада. С моего балкона виден был и соседний Таврический дворец, - где помещалась Государственная Дума...» [Гиппиус-Мережковская 1951, 199]. Неудивительно, что все главные исторические события революционных лет члены «триумвирата» наблюдали из домашнего окна. Подробно эти дни и месяцы описаны в дневниках Гиппиус [Гиппиус 1999,1, II] (по точному наблюдению исследователей, Гиппиус использовала дневниковые записи Философова, факт чего и сама признавала. На это указывают текстуальные совпадения (см. далее). «Но, - полагает Б.И. Колоницкий, - имело место, по-видимому не просто использование, а и включение в текст отредактированных фрагментов дневника Философова» [Колоницкий 1992, 192]; [Философов 1992 а, 193-205], [Философов 1992 Ь, 188-204], [Философов 1992 с, 147-166]).
Крайне негативное отношение к самодержавию (ср. со словами Гиппиус: «Что касается Ф<илософо>ва - у него все было проще: он отрицал самодержавие огулом, как режим, подавляющий общественную и политическую жизнь страны и как виновника и войны, и таких событий и расправ, как 9 Января» [Гиппиус-Мережковская 1951, 137]) поставило Философова в один ряд с теми, кто не просто приветствовал Февральскую революцию, но воспринял случившееся в религиозном ключе. В статье с символическим названием «Воскресшая Россия» он прямо утверждал: «То, что мы пережили с 27 февраля по 2 марта, настолько чудесно, а то, что делалось с 1825 года по 1917 год, настолько ужасно, что нормальные, “обыденные”, похороны не могли удовлетворить народного чувства. Ведь сегодня не только похороны жертв, сегодня великий праздник победы. Сегодня праздник Воскресения русского народа» [Философов 1917, 1917. 23 марта (5 апреля), 1-2]. В день этой публикации, 23 марта (5 апреля) 1917 г, на Марсовом поле в Петрограде состоялись похороны жертв Февральской революции. В братскую могилу было опущено 180 гробов, обтянутых красной материей (см. дневниковую запись Гиппиус от 25 марта (7 апреля) того же года: «Были похороны “жертв” на Марсовом поле. День выдался грязный, мокрый, черноватый. Лужи блестели. Лавки заперты, трамваев нет, “два миллиона” (как говорили) народу, и в порядке, ника- кой Ходынки не случилось» [Гиппиус 1999,1, 505]). За несколько дней до этого Философов, будучи захваченным тревожной атмосферой событий, изумлялся «культурности народного восстания» и утверждал, что «если бы мы имели возможность тихо и спокойно засесть в Публичной библиотеке за изучение “Великой французской революции”, мы сразу оценили бы относительную бескровность и неразрушительность совершившегося переворота» [Философов 1917, 10 (23) марта, 2].
Не относясь к числу безоговорочных сторонников А.Ф. Керенского и не соглашаясь с ним по ряду вопросов, Философов, однако же, признал его «живым воплощением революционного и государственного пафоса» [Гиппиус 1999,1, 476], [Философов 1992 Ь, 197] (в дневниковой записи от 5(18) марта 1917 г. Философов приводит текст своего письма Керенскому: «Считаю своим святым долгом сказать Вам, что именно Вы в трудную ночь с 1-го на 2-е марта спасли Россию от великого бедствия. Только человек высочайшей моральной чистоты, только подлинный гражданин мог в эти трудные часы с таким святым и гениальным энтузиазмом овладеть положением. Тяжкая болезнь все еще держит меня в своих руках. Не знаю, долго ли проживу. Но если судьба не позволит мне увидеть плода революции, то все-таки я уйду из этого мира гордым и спокойным гражданином, с благоговением поминая Ваше имя» [Философов 1992 Ь, 197]) и в отклике на выпущенную Центральным комитетом трудовой группы краткую биографию Керенского по материалам департамента полиции назвал его фактическим «президентом российской республики» и «женихом» русской революции [Философов 1917, Аргус, 82]. Апостольский призыв «Духа не угашайте», взятый в качестве заголовка одной из статей, наполнился для Философова актуальным общественно-политическим содержанием: «Наши министры буквально не спят и не едят по недостатку времени. Своим примером они как бы призывают нас к такой же сверхчеловеческой энергии» [Философов 1917, 14 (27) марта, 3] (ср. с дословным названием статьи Мережковского «Духа не угашайте» [Мережковский 1915, 16 (29) октября, 3]). Действенная помощь по отношению к новой власти заключалась в том, что Философов вместе с Мережковскими 29 марта (И апреля) 1917 г. принял участие в совещании писателей, актеров и драматургов в Зимнем дворце, на котором решался вопрос об «автономии» театров, а в мае вошел в Совет по делам искусств, который был образован при комиссаре Временного правительства над бывшим министерством двора [Летопись... 2005, 560-561]. Активно поддерживая на первых порах правительство, осознавая, что «оно обязано содействовать успокоению страны, созданию условий для повседневной тяжелой работы» [Философов 1917, 16 (29) марта, 2], Философов одновременно с этим выступал против смирения массового энтузиазма: «Чем действеннее наше народное правительство будет отвечать на упования великого народа, совершившего революцию, чем оно будет революционнее, тем и авторитетнее, тем легче победит обе опасности: демагогию “Правды” и контрреволюцию» [Философов 1917, 16 (29) марта, 2]. Переживая, по собственным словам, «великие дни радости и веры»
[Философов 1917, 1 (14) апреля, 3], Философов воспринимал происходящее в гораздо более радужных тонах, нежели Д.С. Мережковский (однако историк Колоницкий справедливо отмечает, что позиция Философова в публицистике немного отличалась от его дневниковых записей: «Так, после февральской революции его публичные выступления характеризуются большим (по сравнению с дневником) оптимизмом...» [Колоницкий 1992, 190]. Например, по дневнику видно, что уже 2 (15) марта 1917 г. Философов довольно трезво оценивал перспективы новой власти: «Словом, это все романтики, фанатики, если угодно, но главное, люди преисполненные “прекраснодушия”. Имея опыт борьбы с врагом, они нисколько не имеют опыта в конкретной реализации своей идеи» [Философов 1992 Ь, 192]). Так, 1 (14) апреля 1917-го каждый из них опубликовал по пасхальной статье. Но если Философов в очередной раз констатировал, что «чудо» уже совершилось и «Россия воскресла» [Философов 1917, 1 (14) апреля, 3], то Мережковский был более сдержан в своих утверждениях: «Но пока дух без плоти и плоть без духа, еще не совершилось Воскресение. Нет, не так-то легко соединить воскресение России с Воскресением Христовым, красное яичко - с красным знаменем» [Мережковский 1917, 1 (14) апреля, 2].
Между тем «золотые сны» Философова развеивались стремительно. 8 (21) апреля, через неделю после Пасхи и почти сразу после возвращения В.И. Ленина в Петроград, ознаменовавшегося историческим выступлением на площади перед Финляндским вокзалом, Философов, который «так разболелся, что его необходимо было увезти» [Гиппиус-Мережковская 1951, 223], отправился вместе с Мережковскими в Кисловодск. «Да, не дай Бог, - сокрушался он со знанием дела, - по нынешним временам быть больным!» [Философов 1917, 21 мая (3 июня), 3]. В то самое время кавказские минеральные воды оказались отрезаны от России из-за нераспорядительности почтового ведомства. «Все рестораны и гостиницы, - писал Философов в заметке по этому поводу, - увеличили цены на 25 %. Для того, чтобы не быть голословным, скажу, что сегодня, в казенной кофейне я уплатил 3 р. 10 коп. за два стакана кофе и два яйца всмятку» [Философов 1917, 21 мая (3 июня), 3]. «Жить на Кавказе, - по признанию Гиппиус, -было довольно тяжело. Издали все казалось мутнее и страшнее» [Гиппиус-Мережковская 1951, 223-224]. И все же именно в Кисловодске Мережковским и Философову удалось организовать газету «Грядущее» [Соболев 1993, 42-43], которая вышла в двух номерах: за август и сентябрь.
В условиях надвигающейся катастрофы (июльский кризис, массовое дезертирство на фронте) тональность статей Философова становится более трезвой, чем это было в первые послереволюционные дни. Все настойчивее звучат его предупреждения о том, что «стихийная темнота народных масс так же опасна, как и классовый эгоизм» [Философов 1917, 12 (25) августа, 2], в то время как «“новые люди”, добравшись до власти, бессознательно одеваются в старые одежды, подпадают под ярмо старых навыков» [Философов 1917, 2]. Философов присоединяется к «открытому письму» муромцев, которые безрезультатно съездили в столицу хлопотать 98
о поддержке своего продовольственного плана. Кончается оно следующими скорбными словами: «Нравственную ответственность за будущее мы слагаем на тех, кто слеп или не хочет видеть действительности. Мы говорим: нравственную ответственность, ибо понимаем, что голодный народ прежде всего сметет тех, кто к нему ближе, а вы, - вы в то время будете в своем кабинете рассматривать вопрос о том, почему нам не удалось выполнить наши прекрасные планы» [Философов 1917, 23 августа (5 сентября), 2]. В своих воспоминаниях Гиппиус уверяет, что из всего их окружения Мережковский «оказался самым прозорливым. Еще в марте, когда у многих не погасла первая радость, он объявил: “Нашу судьбу будет решать Ленин”» [Гиппиус-Мережковская 1951, 222]. Но, судя по ее же дневниковой записи от 6 (19) марта, эти слова произнес Философов [Гиппиус 1999, I, 481]. И действительно, днем раньше он записал их в собственном дневнике [Философов 1992, Ь, 199]. Не пройдет и полгода, когда в августе Гиппиус услышит от Философова слова, подтверждающие его же предсказание: «Весь город ждет выступления большевиков. Ощущение, что никакой власти нет» [Гиппиус 1999,1, 550].
Об этом читаем едва ли не в каждой сентябрьской публикации Философова. «Начиная с 21 апреля, - пишет он, - наша власть колеблется, как маятник, ограничиваясь бесконечной словесностью» [Философов 1917,29 сентября (12 октября), 1]. И здесь же: «Отсутствие твердой власти - таково основное страдание России. Жажда хоть какого-нибудь порядка, как непременного условия бытия России, распространяется все шире и шире. А так как центральная власть до сих пор не удовлетворяет этой законной потребности граждан, то появляются отдельные попытки утвердить порядок, так сказать “самочинно”, помимо и вопреки бездеятельной и беспринципной власти официальной» [Философов 1917, 29 сентября (12 октября), 1]. Единственной реальной, наименее утопичной силой, способной противостоять «непротивленышам» (именно так Философов назвал одну из своих статей о «народных вождях» после их пребывания у власти), оказались большевики. «По крайней мере, - как сказано уже в другой его публикации от 15 (28) сентября, - ясно видно, чего Ленин хочет и куда идет. Идет напролом» [Философов 1917, 15 (28) сентября, 1]. Спустя еще несколько дней Философов подводит неутешительный для Временного правительства итог: «...в революции побеждает не истерика, а здравый ум и твердая память» [Философов 1917, 27 сентября (10 октября), 2].
Следует отдать должное дальновидности Философова, который еще в марте 1917-го писал о необходимости бороться с демагогией и «во имя будущей близкой свободы» открыто призывал правительство «к решительным действиям, даже к насилию» [Философов 1917, 16 (29) марта, 2]. Теперь же, 6(19) октября, его предостережения звучали все более безнадежно: «Насильничает и “принуждает” у нас всякий, кто хочет, кому не лень. “Не противится” только государственная власть. Она воистину перешла в толстовство и беспристрастно взирает на все увеличивающуюся анархию» [Философов 1917, 6 (19) октября, 2]. Что же касается персональной ответственности, то, как полагает Философов, «львиная доля вины за не-авторитетность сегодняшнего правительства, за “зигзаги” его политики, за российскую анархию падает на эсеров» [Философов 1917, 21 сентября (4 октября), 2]. Но и Керенский, по его мнению, слишком долго не проявлял решительности. Почти накануне Октябрьского переворота в отчете о заседании Временного совета Российской республики Философов с очевидным сожалением отмечает: «Я внимательно слежу за публичными выступлениями Керенского, с тех пор, как он стоит во главе Правительства, и<,> если не ошибаюсь, он впервые высказался столь резко и определенно о “большевиках”, назвав их тактику - тактикой “шантажа и погромов”» [Философов 1917, 14 (27) октября, 2]. Но ничем помешать им уже не мог.
Наряду с революцией еще одним важнейшим событием в политической повестке у Философова была продолжавшаяся война. Ее трагические последствия постоянно оказывались в центре внимания публициста: будь то бедственное положение увечных воинов, которые должны получать помощь «не потому, что нам “жалко” инвалидов, а потому что они имеют на это законное право, и государство обязано им помочь» [Философов 1917, 12 (25) марта, 3], или же детская преступность, которая за годы войны только в Петрограде выросла больше, чем вдвое. Философов с тревогой замечает «нарождение нового класса: детского пролетариата» [Философов 1917, 13 (26) февраля, 2] - и заявляет о том, что «городская дума делает все от нее зависящее, чтобы насаждать в столице хулиганство, оставлять без призора столь увеличившееся число “самостоятельных” подростков. Пассивность и неряшливость города в этом смысле воистину ужасны» [Философов 1917, 7 (20) февраля, 2]. И хотя Философов, в отличие от Мережковских, занимал оборонческую позицию («Мы открыто и последовательно, - писал он, - боремся за оборону, за поднятие боеспособности армии» [Философов 1917, 5 (18) сентября, 2] (ср. слова Гиппиус: «Многие, очень многие, тоже войну принципиально отрицавшие, также не видевшие для нее достаточно поводов и даже сомневавшиеся в победе России при ее положении, - все-таки - войну эту из любви к России приняли и о победе мечтали, (как самый близкий друг наш, Д. Философов)» [Гиппиус-Мережковская 1951, 240]), однако «воскрешение» страны напрямую увязывал с завершением боевых действий: «Революция началась войной, победила во время войны, и восторжествует окончательно при условии достойного, почетного окончания войны» [Философов 1917, 23 марта (5 апреля), 2].
В первые дни после Февральской революции Философов убеждал себя и своих читателей в том, что если прежде, в условиях ненавистного им самодержавия, «защищать приходилось как бы не реальную Россию, а Россию желанную, любимую лишь в мечтах» [Философов 1917, 7 (20) марта, 2], то «теперь нет разделения между народной армией и правительством, между фронтом и тылом» [Философов 1917, 7 (20) марта, 2], а следовательно, лозунг «Все для войны!» приобретает особую актуальность: «Все для войны - значит все для процветания новой демократии, все для за- крепления новых позиций, как внешних, так и внутренних» [Философов 1917, 7 (20) марта, 3]. Однако и в этом вопросе бездеятельность «народной власти» становилась для Философова все более очевидной. Еще в июле 1917-го он возлагал надежды на Керенского, который, «сам человек непоколебимой чести и беззаветного мужества», по словам Философова, «теперь ближе вошел в жизнь фронта и, нет сомнения, по достоинству оценил и понял русского, среднего, офицера. Правительственные комиссары при армии подобраны очень удачно. Это все мужественные, испытанные революционеры, которые, так же как и Керенский, дадут русскому офицерству нравственную опору» [Философов 1917, 16 (29) июля, 2]. Но, наблюдая за происходящим, получая многочисленные письма с фронта, пришедшие в ответ на только что процитированную нами статью «Русский офицер», Философов менее чем через месяц признал, что для восстановления боеспособности армии одних речей недостаточно: «А.Ф. Керенский обещал нам ввести в армию железную дисциплину. Но до сих пор это обещание не выполнено» [Философов 1917, 13 (26) августа, 2].
Авторитет русских офицеров так и не был поднят. В сентябре Философов начал собирать газетный материал, касающийся безнаказанных преступлений, совершаемых над ними. «Но, кажется, - пишет он, - эту затею придется бросить. Слишком много материала» [Философов 1917, 30 сентября (13 октября), 2]. Забав о фронте, оставив армию без моральной поддержки, власти, по убеждению Философова, не только поставили под угрозу жизни людей («Здесь, в наших говорильнях спорят, колеблются, ежедневно делают новые эксперименты, а там, на фронте расплачиваются за петербургские громкие слова своими боками» [Философов 1917, 17 (30) октября, 2]), но и тем самым «помогли большевикам» [Философов 1917, 20 октября (2 ноября), 1]. За пять дней до Октябрьского переворота, в статье от 20 октября (2 ноября) 1917 г. Философов пророчески заявляет: «Мы накануне выступления большевиков» [Философов 1917, 20 октября (2 ноября), 1]. А за день до самого выступления, 24 октября (6 ноября), делясь с читателями впечатлениями об очередном заседании Временного совета Российской республики, он даже приводит предполагаемые даты: «.. .в кулуарах хладнокровно осведомляются о сроке “свержения правительства” большевиками. Одни утверждают, что это будет в ночь на вторник, другие <-> на пятницу» [Философов 1917, 24 октября (6 ноября), 2].
25 октября (7 ноября) 1917 г. пришлось, как известно, на четверг. Случившееся было воспринято Философовым как контрреволюция, пришествие темных сил, преступление политических проходимцев. Иванов-Разумник, занимавший «амплуа эсеровского “первого любовника”» [Философов 1918, 12 марта (27 февраля), 2], дал наиболее точную оценку тому состоянию, которое Философов пережил вместе с Мережковскими: «Крушение всех былых надежд...» [Иванов-Разумник 1917, 15 (28) октября, 5].
Последствия Октября не заставили себя долго ждать. «Русская революция, - утверждал Философов уже в декабре 1917-го, - перестала быть всенародной. С нашей точки зрения<,> она гибнет» [Философов 1917, 2
-
(15) декабря, 2]. Многочисленные проявления этого процесса становились предметом его выступлений в печати, пока возможность высказываться публично еще оставалась. «Мы теперь именно сели в калошу... счастья, -пишет Философов, отсылая к известной сказке Андерсена, - имеем возможность жить в России, эдак XVI-ro или начала XVII-ro столетия. Все условия мало-мальски сносного общежития нарушены. Суда нет, личной безопасности нет, путей сообщения нет» [Философов 1917, 21 декабря (3 января), 1]. Положение русского офицерства усугубилось еще больше: «В награду за свои подвиги они получили зверские самосуды, всяческие измывательства и наконец - нищету» [Философов 1917, 9 (22) декабря, 1]. Опора на деклассированные массы привела к тому, что «квалифицированные рабочие, кровно связанные с промышленностью, начинают ужасаться тому развалу, который уготовили большевики русской фабрике. Именно они восстают против дилетантского “контроля рабочих”, который сводится к уничтожению самого производства» [Философов 1917, 22 декабря (4 января), 1]. После организации ВЧК при Совете народных комиссаров Философов небезосновательно предположил, «что новая комиссия грозит неисчислимыми бедствиями всем и каждому» [Философов 1917, 19 декабря (1 января 1918), 1]: «Говоря языком менее официальным, комиссия призывает всех и каждого посылать доносы...» [Философов 1917, 19 декабря (1 января 1918), 1]. В участившихся еврейских погромах Философов увидел «самое законное следствие всевозможных “усмирений” и “карательных экспедиций”» [Философов 1917, 17 (4) апреля, 1]. В ответ на прозвучавшие обвинения «Известий» и «Красной газеты» в том, что за погромами стоит буржуазия, Философов возмущенно заявляет: в сложившейся атмосфере «междоусобной брани», гражданской войны «к числу “буржуев” причисляются просто люди грамотные» [Философов 1917, 17 (4) апреля, 1], а в статье с ярким названием «Импотентная буржуазия» прямо призывает, «наконец, признать, что буржуазии, в настоящем смысле этого слова, у нас и не было!..» [Философов 1917, 21 (8) апреля, 1].
Примечательно, что почти дословно эта мысль Философова будет повторена Мережковским на страницах той же газеты, «Наш век», но только двумя месяцами позже, в июне 1918-го: «В России никогда никакой буржуазии не было, ни святой, ни грешной» [Мережковский 1918, 28 (15) июня, 2]. Сходятся авторы и в своих прогнозах. Так, Философов пишет о том, что «станет Россия страной мелкой буржуазной собственности, страной, воистину демократической. И воцарится в ней порядок. И перестанут наши умники говорить об “импотентной буржуазии”. Заманчивого в этом “идеале” ничего нет» [Философов 1917,21 (8) апреля, 2]. Мережковский, в свою очередь, тоже говорит о том, что «русский коммунизм убивает нерожденное, но не убьет: русский буржуй все-таки родится. И, может быть, единственное не мертворожденное дитя нашей “социалистической” революции будет именно он, так называемый мелкий, грешный или святой, буржуй» [Мережковский 1918, 28 (15) июня, 2]. Еще одна точка сближения в публицистике двух единомышленников - отождествление большевистского и царского режимов. Мережковский одним из первых в статье «Упырь» от 28 ноября (11 декабря) 1917 г. провел параллели между самодержавием Романовых и политикой лидера большевиков. Не только в их отношении к свободе слова, но и по целому ряду других пунктов: «оба самодержавия обманывают народ чудесами, “царством Божьим на земле” - теократическим или социалистическим»; «оба самодержавия хотят, поработив, осчастливить»; «оба самодержавия взывают к “воле народа”; но народ для них - слепая стихия - не народ, а чернь, “черная сотня”» [Мережковский 1917, 28 ноября (11 декабря), 1]. Спустя несколько дней, 3 (16) декабря, уже Философов чуть ли не дословно повторяет: «Самодержавие налицо» [Философов 1917, 3 (16) декабря, 1]. «Сегодняшняя диктатура, - пишет он в годовщину восстания декабристов, - находится в преемственной связи с победой Николая I» [Философов 1917, 14 (27) декабря, 1]. О том же - в статье, опубликованной через семь месяцев, 21 (8) июля 1918 г: «Прежде твердили: самодержавие, православие, народность. Теперь твердят: интернационализм, демократизм, социализм» [Философов 1918,21 (8) июля, 1]. Даже в неудачном покушении на Ленина 1 (14) января того же года Философов усматривает сходство большевиков, которые, по его словам, пытаются «чем-нибудь прикрыть свое внутреннее и внешнее бессилье», с самодержавной властью: «Этот прием давно известен. Им традиционно пользовался царский режим. Если нет “ритуального убийства”, его необходимо создать» [Философов 1918, 4 (17) января, 1].
Принято считать, что Философов в своей публицистике выступал рупором идей Мережковских. До известной степени так оно и было. Розанов 3 июня 1914 г. сделал о нем запись в «Мимолетном»: «Писатель без слов, без мыслей, без чего-либо “своего”. Все - Мережковского и “Зины”» [Розанов 1997, 387]. Философов и сам подчас склонялся к той же мысли и 25 июля 1904-го признавался в письме Мережковским: «Должен сказать, что в моей статье много мыслей 3<инаиды> Н<иколаевны>, конечно, грубые, фельетонные» [Пахмусс 1998, 76]. Философов был постоянным спутником Мережковских много лет. Но их отсчет следует вести отнюдь не с формального знакомства, о котором мы говорили в связи со статьей памяти Ковалевского. Настоящее сближение с Мережковскими относится к 1898 г. и эпохе «Мира искусства» - журнала, где при посредничестве Философова было опубликовано знаменитое исследование «Л. Толстой и Достоевский». В то время он, если верить Гиппиус, обладая «скорее пассивным» характером, находился под властью своего двоюродного брата С.П. Дягилева [Гиппиус-Мережковская 1951, 84-85]. Несмотря на это, Философов был первым, кому Мережковские рассказали о желании создать новую церковь. В дневнике Гиппиус «О бывшем» сказано: «...с ним одним мы в Главном были согласны, и даже не в одном Главном» [Гиппиус 1999, I, 92]. В творческом плане этому «тройственному союзу» принадлежит драма «Маков цвет» [Мережковский, Гиппиус, Философов
1908], [Мережковский, Гиппиус, Философов 1907], а также сборник статей «Царь и революция» («Ге Tsar et la Revolution», 1907) [Мережковский, Гиппиус, Философов 1999].
При этом следует отметить, что до Мережковских, если не считать Дягилева, определенное влияние на Философова оказывал его гимназический друг Бенуа, о чем он сам впоследствии вспоминал: «...стало сказываться и мое влияние на Диму; он оказался несравненно более мягким и податливым, нежели это казалось раньше» [Бенуа 1980,1, 500]. Разумеется, не следует преуменьшать и влияние семьи. Не исключено, что личный пример отца, В.Д. Философова, который состоял прокурором в Военном суде, а затем заседал в Государственном совете, не позволил будущему публицисту, столь искренне интересовавшемуся положением русского офицерства на фронтах Первой мировой войны, занять пораженческую позицию. В интересе Философова к вопросам благотворительности и образования можно было бы усмотреть влияние матери, Анны Павловны (урожд. Дягилевой), либеральной общественной деятельницы, инициатора создания Высших женских («Бестужевских») курсов. Недаром один из членов «дягилевского» кружка сказал однажды Гиппиус, «что у “Димы”-то натура Анны Павловны, и наследственность когда-нибудь скажется» [Гиппиус-Мережковская 1951, 120].
Самостоятельность, однако, Философов проявлял, причем нередко, своевольничал, спорил, периодически пытался вырваться из-под опеки и в конце концов вырвался, оставшись в 1920 г. в Варшаве, попав, впрочем, под новое влияние. Имея в виду Б.В. Савинкова, в апреле 1921 г. Гиппиус пишет Философову: «Не могу остаться равнодушной, видя, что многие мысли и мнения, которые выражаешь, - не твои. Ты просто следуешь чьим-то другим идеям» [цит. по: Дюррант 1994, 449]. Однако до конца дней Философов не перестал считать Мережковских одними из самых близких людей. Основная причина распада их «тройственности», вероятнее всего, заключалась в тех переменах, которые произошли с Философо-вым в конце 1910-х. «Я... - говорит он в письме к М.П. Арцыбашеву от 15 августа 1923 г, - с раскаянием смотрю на свое прошлое и чувствую, что у нас была совершенно ошибочная концепция идеалов и слияния этих идеалов с жизнью» [цит. по: Дюррант 1994, 448]. Очевидно, что, собранные воедино, статьи Философова революционных лет помогут полнее раскрыть обстоятельства этого раскаяния и проследить трагические изменения в судьбе не только отдельной творческой личности, но и всей страны.
Список литературы "Нечто пессимистическое": общественно-политические взгляды Д. В. Философова в публицистике революционных лет (1917-1918)
- Коростелев О.А. Литературная критика Дмитрия Философова//Философов Д.В. Критические статьи и заметки (1899-1916)/пред., сост. и примеч. О.А. Коростелева. М., 2010. С. 3-21.
- Коростелев О.А. Статьи и заметки Д.В. Философова на литературные темы (1899 -1917): материалы к библиографии//Философов Д.В. Критические статьи и заметки (1899-1916)/пред., сост. и примеч. О.А. Коростелева. М., 2010.
- Летопись литературных событий в России конца XIX -начала ХХ в. (1891 -октябрь 1917). Вып. 3 (1911 -октябрь 1917)/ред.-сост. М.Г. Петрова. М., 2005.