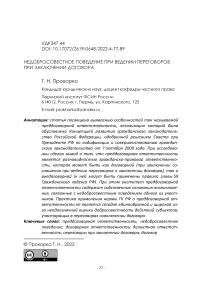Недобросовестное поведение при ведении переговоров при заключении договора
Автор: Прохорко Т.Н.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Частноправовые (цивилистические) науки
Статья в выпуске: 4, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению особенностей так называемой преддоговорной ответственности, легализация которой была обусловлена Концепцией развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 года. При исследовании сделан вывод о том, что преддоговорная ответственность является разновидностью гражданско-правовой ответственности, которая может быть как договорной (при заключении соглашения при ведении переговоров о заключении договора), так и внедоговорной (к ней могут быть применены правила главы 59 Гражданского кодекса РФ). При этом институт преддоговорной ответственности содержит собственные основания возникновения, связанные с недобросовестным поведением одного из участников. Практика применения нормы ГК РФ о преддоговорной ответственности не является сегодня единообразной и широкой из- за неоднозначной оценки добросовестности действий субъектов, участвующих в переговорах озаключении договора.
Преддоговорная ответственность, недобросовестное поведение, договорная ответственность, деликтная ответственность, переговоры при заключении договора, договор
Короткий адрес: https://sciup.org/147239314
IDR: 147239314 | УДК: 347.44 | DOI: 10.17072/2619-0648-2022-4-77-89
Текст научной статьи Недобросовестное поведение при ведении переговоров при заключении договора
«Д ействующему гражданскому законодательству не известны общие правила о преддоговорной ответственности сторон. В литературе можно встретить понятие “преддоговорная ответственность”, однако его со‐ держание не раскрывается в гражданском законодательстве РФ»1. Этот тезис справедлив даже сейчас, при введении в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) статьи 434.1 «Переговоры о заключении догово‐ ра»2. Представляется, что дискуссия о преддоговорной ответственности, ее сущности и отличительных свойствах, имеет особое значение для развития
________________________________ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ гражданско‐правовых отношений, поскольку сама эта ответственность связа‐ на с системообразующими элементами отрасли гражданского права, такими как принципы гражданского права в их взаимосвязи, а именно принцип‐ норма «свобода договора», закрепленный статьей 421 ГК РФ, и принцип добросовестности, закрепленный пунктами 3 и 4 статьи 1 ГК РФ и дополнен‐ ный статьей 10 ГК РФ, устанавливающей пределы осуществления граждан‐ ских прав.
Развитие гражданского законодательства происходит постепенно и не отличается равномерностью, поэтому представляется не всегда легким де‐ лом оценить возможные и необходимые пути его развития. Так, принцип добросовестности получил свое закрепление в гражданском законодательст‐ ве 1 марта 2013 года. Закрепляя в качестве принципа (основы) гражданского права необходимость участников действовать добросовестно, а также не‐ возможность извлекать преимущество из своего незаконного и недобросо‐ вестного поведения, законодатель предполагает, что он (принцип) будет действовать в любой момент гражданско‐правовых отношений. Пункт 3 ста‐ тьи 1 ГК РФ сформулирован так, что участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно не только «при осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей», но и «при установлении гражданских прав и обязанностей». Таким образом, в право‐ вой литературе предполагается, что «еще на стадии приобретения граждан‐ ских прав, а значит, и на стадии ведения переговоров о заключении догово‐ ров»3 стороны должны действовать добросовестно. Однако до момента ус‐ тановления конкретных правил в отношении переговоров при заключении договора это были лишь теоретические изыскания, развивающие теорию, но не практику, несмотря даже на то, что принцип добросовестности закреплен гражданским отраслевым законодательством, но считается «общеправовым принципом», о чем, по мнению некоторых авторов, «свидетельствует его ис‐ пользование Конституционным Судом РФ применительно к налоговым пра‐ воотношениям»4 (см. определение Конституционного Суда РФ от 25 июля 2001 г. № 138‐О «По ходатайству Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о разъяснении постановления Конституционного Суда Рос‐ сийскойФедерации от 12 октября 1998 года по делу о проверке конституци‐ онности пункта3 статьи11 Закона Российской Федерации “Об основах нало‐ говой системы в Российской Федерации”»).
Само по себе установление принципа добросовестности в качестве от‐ раслевого принципа гражданского права не способствует легальному закре‐ плению преддоговорной ответственности. Кроме того, представляется вер‐ ным мнение о том, что «указанный принцип действует одновременно с принципом свободы договора, предполагающим, что участники граждан‐ ских правоотношений могут свободно вести переговоры с неограниченным кругом потенциальных клиентов на предмет заключения договора, предла‐ гать более подходящие для них условия заключения договора. Однако если потенциальный контрагент не стремится заключить договор с конкретным участником гражданского оборота вовсе, а совершает действия с целью от‐ влечь такого участника от заключения договора со своим конкурентом, или необоснованно прекращает ведение переговоров, чем причиняет убытки ли‐ цу, с которым вел переговоры, в этой ситуации последний является незащи‐ щенным. Поэтому необходимо найти разумный баланс в целях защиты инте‐ ресов участников гражданского оборота между двумя принципами: добросо‐ вестность и свобода договора»5.
Баланс между принципом добросовестности и принципом свободы договорапри ведении переговоров о заключении договора
Казалось бы, достичь баланса между принципами добросовестности и свободы договора при привлечении к ответственности в случае выхода из переговоров о заключении договора поможет легализация конструкции «преддоговорная ответственность». Считается, что она появилась в граждан‐ ско‐правовом поле Российской Федерации с введением в действие ста‐ тьи 434.1 ГК РФ «Переговоры о заключении договора». В пункте 1 данной ста‐ тьи подтверждается действие принципа свободы договора также и на стадии переговоров о его заключении: «Если иное не предусмотрено законом или договором, граждане и юридические лица свободны в проведении перего‐ воров о заключении договора, самостоятельно несут расходы, связанные с их проведением, и не отвечают за то, что соглашение не достигнуто». Смысл этого установления – распространить на преддоговорные отношения уста‐ новление о том, что «в силу принципа свободы договора, по общему прави‐ лу, стороны самостоятельно несут риск того, что переговоры не окончатся заключением договора, то есть ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения понесенных в процессе переговоров расходов в случае их безрезультатности»6. Судебная практика по таким отношениям формируется крайне медленно и носит, на наш взгляд, противоречивый ха‐ рактер, главным образом потому, что отношения чаще всего не основаны на соглашении, где были бы обозначены взаимные интересы сторон именно в отношении процесса переговоров, хотя пункт 5 статьи 434.1 предусматривает возможность заключения соглашения о порядке ведения переговоров. И ес‐ ли принцип свободы договора является принципом‐нормой, имеющим оп‐ ределенные составляющие, измеримые по содержанию, и, более того, усто‐ явшимся с момента кодификации и подкрепленным многолетней практикой применения, то принцип добросовестности более «молод» и имеет своим содержанием оценочную категорию добросовестности. «Используя оценоч‐ ные понятия, законодатель предоставляет правоприменителям свободу в их интерпретации путем наполнения конкретным содержанием в зависимости от конкретных обстоятельств. Адресат гражданско‐правовой нормы с оце‐ ночным понятием сталкивается с ситуацией, когда эта норма имеет несколь‐ ко вариантов и, соответственно, существует возможность выбора поведе‐ ния»7. Таким образом, допустимо говорить о том, что в той или иной ситуа‐ ции каждый, кто является правоприменителем гражданско‐правовой нормы с оценочным содержанием, может применять ее в зависимости от юридиче‐ ски значимого результата, к которому он стремится, а также в зависимости от средств, способов и порядка его воплощения. Существует точка зрения, что «основная роль в определении содержания гражданско‐правовых норм с оценочными понятиями и... степени должного поведения субъектов отводит‐ ся суду. Суд оценивает правильность определения субъектом содержания оценочного понятия через совершённые действия. Участникам гражданских правоотношений заранее неизвестно, когда лицо будет считаться недобро‐ совестным или какой результат частного усмотрения суд может назвать не‐ правильным. Неопределенность оценочных понятий и в связи с этим воз‐ можность неоднозначного их толкования и конкретизация при правоприме‐
ПРОХОРКО Т. Н. _________________________________________________________________ нительном процессе вызвали необходимость установления тех критериев, которыми может и должен руководствоваться суд при оценке правильности тех или иных действий лица»8. Очевидно одно: если сами участники перего‐ ворных отношений не могут определить, действовал ли тот или иной добро‐ совестно или нет, то они могут прибегнуть к оценке этих действий с точки зрения добросовестности в судебном порядке.
Критерии добросовестности частично определены в статье, посвя‐ щенной переговорам при заключении договора, а именно в пункте 2 ста‐ тьи 434.1 ГК РФ: «При вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно, в частности не допускать вступление в переговоры о заклю‐ чении договора или их продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной». Таким образом, нормы граждан‐ ского права, посвященные договорным отношениям, в том числе действиям на стадии вступления в договорные отношения, выбиваются из общей кон‐ цепции гражданского права, в котором действует презумпция вины. Это означает, что нарушитель считается виновным до тех пор, пока он не дока‐ жет свою невиновность: «лицо признается невиновным, если при той сте‐ пени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по ха‐ рактеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для над‐ лежащего исполнения обязательства» (п. 1 ст. 401 ГК РФ). Подобная противоречивость норм гражданского законодательства не давала толчка к полноценному и эффективному применению нормы о переговорах до мо‐ мента появления официального толкования легально закрепленного поло‐ жения. Статья 434.1 ГК РФ была введена в гражданское законодательство в 2015 году Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42‐ФЗ9, а обуслов‐ лена Концепцией развития гражданского законодательства Российской Фе‐ дерации, одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодифика‐ ции и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 года, где в пункте 7.7 говорится о том, что «в целях предотвращения недобросовестного поведения на стадии переговоров о заключении дого‐ вора в ГК следует для отношений, связанных с предпринимательской дея‐ тельностью, предусмотреть специальные правила о так называемой пред‐ договорной ответственности (culpa in contrahendo), ориентируясь на соот‐ ветствующие правила ряда иностранных правопорядков»10. Официальное толкование рассматриваемой норме действующего ГК РФ дал Верховный Суд РФ, разъяснивший, что в данных отношениях вина правонарушителя не презюмируется. В постановлении от 24 марта 2016 г. № 17 (абз. 2 п. 19) Пленум Верховного Суда РФ указал на презумпцию добросовестности уча‐ стников переговоров таким образом: «Предполагается, что каждая из сто‐ рон переговоров действует добросовестно и само по себе прекращение пе‐ реговоров без указания мотивов отказа не свидетельствует о недобросове‐ стности соответствующей стороны. На истце лежит бремя доказывания, что, вступая в переговоры, ответчик действовал недобросовестно с целью при‐ чинения вреда истцу, например, пытался получить коммерческую инфор‐ мацию у лица либо воспрепятствовать заключению договора между истцом и третьим лицом (пункт 5 статьи 10, пункт 1 статьи 421 и пункт 1 статьи 434.1 ГК РФ)»11. Однако несмотря на то, что основы преддоговорной ответствен‐ ности заложены законодательно, а также дано официальное толкование основаниям ее наступления, правоприменение этих норм не происходит легко и гладко, поскольку у судов возникают трудности квалификации по‐ ведения как добросовестного или недобросовестного. Из‐за этого возника‐ ет непредсказуемость и непрогнозируемость развития ситуации и, как следствие, отсутствие единообразного применения норм действующего гражданского законодательства, в том числе при участии суда.
Иллюстрацией вышеизложенного может служить дело Плетнева П. С. по иску к ООО «Юниверсал‐Аква» и к ООО «Юниверс‐Аква» о взыскании 520 тыс. рублей убытков.
Как установлено в ходе гражданского судопроизводства, Плетнев П. С. вел с юридическими лицами переговоры, предметом которых была возмож‐ ная продажа этими лицами истцу фитнес‐клуба. Переговоры велись с октября 2017 года по февраль 2018‐го. В этот период Плетнев П. С. заключил согла‐ шение по оказанию юридической помощи при совершении сделки. Соглаше‐
ПРОХОРКО Т. Н. _________________________________________________________________ нием была предусмотрена оплата оказанных услуг коллегии, в том числе в виде невозвратного аванса.
Впоследствии одна из сторон прекратила переговоры о заключении до‐ говора, мотивировав свой отказ тем, что продавцы параллельно вели пере‐ говоры с другим покупателем, чье предложение в итоге решили принять, по‐ считав его более выгодным. Истец счел действия ответчиков недобросо‐ вестными, поскольку они предоставили неполную информацию, умолчав о параллельных переговорах с другим покупателем, а также внезапно и не‐ оправданно прекратили переговоры о заключении договора при таких об‐ стоятельствах, при которых покупатель не мог разумно этого ожидать. Про‐ изошедшее повлекло возникновение у него убытков в виде уплаты коллегии невозвратного аванса. Поэтому он обратился в суд за защитой своих прав.
Суд первой инстанции, апелляционный суд, а также суд округа отказа‐ ли истцу в удовлетворении иска, посчитав, что истец не смог доказать недоб‐ росовестность действий ответчиков при проведении переговоров и наличие причинно‐следственной связи между действиями ответчиков и возникнове‐ нием у него убытков, со ссылками на пункт 1 статьи 393 и статью 15 ГК РФ, пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Россий‐ ской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», пункт 12 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении су‐ дами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Судебная коллегия сочла, что суды трех инстанций при рассмотрении иска Плетнева П. С. не учли определенные обстоятельства. По мнению суда более высокой инстанции, имелся ряд не рассмотренных судами в процессах обстоятельств, изучение которых позволило бы судам более полно и обстоя‐ тельно взглянуть на ситуацию и даже повлиять на исход дела. В данном слу‐ чае суд более высокой инстанции сам не исследовал имеющие значение для решения дела обстоятельства, но отправил дело на пересмотр.
Суд указал, что статья 434.1 содержит изъятия из принципа свободы договора, установленного статьей 421 ГК РФ. Так, «в качестве одного из слу‐ чаев преддоговорной ответственности пункт 2 статьи 434.1 Гражданского ко‐ декса прямо называет вступление в переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной.
Недобросовестным признается поведение, когда лицо вступает или продолжает переговоры, хотя оно знает или должно знать, что оно уже не будет заключать договор, по крайней мере, с этим контрагентом.
В этом случае подлежат установлению обстоятельства того, что ответ‐ чик изначально не имел намерения заключать договор либо впоследствии утратил это намерение, но не сообщил об этом своему контрагенту и про‐ должал создавать видимость намерения заключить договор именно с этим контрагентом, например запрашивая лучшую цену и иные улучшения офер‐ ты, хотя к моменту такого запроса лицо знало или должно было знать, что оферта не будет принята ни при каких условиях.
Следовательно, лицо обязано возместить убытки своему контрагенту ввиду недобросовестного ведения переговоров...
В такой ситуации подлежит установлению, когда готовность лица за‐ ключить договор стала носить притворный характер и, если контрагент не был сразу же уведомлен о прекращении намерения заключить договор, ста‐ ло ли это причиной его дополнительных расходов, которые он не понес бы в случае своевременного уведомления»12.
В данном конкретном случае баланс между принципом свободы дого‐ вора и принципом добросовестности не был сразу найден судами, поскольку было недостаточно исследовано поведение сторон в рамках разумности и справедливости (= добросовестности), притом что каждая из сторон считала свое поведение добросовестным. Существуют некоторые трудности, ослож‐ няющие полноценную реализацию института так называемой преддоговор‐ ной ответственности. В первую очередь это изначальное установление сто‐ ронами в преддоговорных отношениях баланса между принципом‐нормой, которым является свобода договора, и принципом добросовестности, кото‐ рый с формальной точки зрения менее выражен в гражданском законода‐ тельстве. При невозможности реализации свободного усмотрения сторонами такая привилегия отдается суду.
Но и здесь существует ряд проблем, подлежащих решению в процессе правоприменения. Например, В. Г. Голубцов считает, что «проблематика, свя‐ занная с этим, весьма интересна и достаточно разнообразна. Во‐первых, тема‐ тика оценочных понятий – это значительный срез проблемы судейского усмот‐ рения. Во‐вторых, укоренившееся в судебной практике обыкновение, в рамках
ПРОХОРКО Т. Н. _________________________________________________________________ которого широко используется в первую очередь грамматическое толкование, диктует необходимость более широкого привлечения таких критериев, как це‐ ли закона, принципы правового регулирования, ценности, стоящие выше зако‐ на. В‐третьих, налицо необходимость адаптации зарубежного опыта, без ис‐ пользования которого правоприменение в этом направлении, думается, не будет развиваться с той степенью интенсивности, которая требуется»13.
Особенности преддоговорной ответственности
Считается, что «классическое деление ответственности в зависимости от способа ее возникновения на договорную и внедоговорную претерпело изменение. Связано это с дополнением Гражданского кодекса РФ новыми положениями, регламентирующими вопросы ведения переговоров о заклю‐ чении договора, а также вопросы ответственности в связи с недобросовест‐ ным ведением переговоров, которые привели к наступлению убытков у од‐ ной из сторон»14. Этот высказанный тезис порождает дискуссию, поскольку, если опираться на статью 434.1 ГК РФ, можно сделать вывод, что в ней зало‐ жены именно две формы ответственности: договорная, основанная на со‐ глашении, которое заключается сторонами при ведении переговоров о за‐ ключении договора, и внедоговорная, чьим основанием является причине‐ ние вреда, образовавшегося при недобросовестных действиях в ходе ведения переговоров при заключении договора. Так, пункт 5 статьи 434.1 ГК РФ устанавливает, что «стороны могут заключить соглашение о порядке ве‐ дения переговоров. Такое соглашение может конкретизировать требования к добросовестному ведению переговоров, устанавливать порядок распреде‐ ления расходов на ведение переговоров и иные подобные права и обязанно‐ сти. Соглашение о порядке ведения переговоров может устанавливать неус‐ тойку за нарушение предусмотренных в нем положений».
Очевидно, что имеется в виду договорная ответственность, которая на‐ ступает при нарушении условий договора (соглашения). Предполагается так‐ же, что в указанной статье речь идет о внедоговорной, или деликтной, ответ‐ ственности, поскольку в пункте 8 говорится, что правила настоящей статьи не исключают применения к отношениям, возникшим при установлении дого‐ ворных обязательств, правил главы 59 ГК РФ15. По мнению Верховного Суда РФ, дающего официальное толкование действующим нормам гражданского законодательства, «к отношениям, связанным с причинением вреда недоб‐ росовестным поведением при проведении переговоров, применяются нор‐ мы главы 59 ГК РФ с исключениями, установленными статьей 434.1 ГК РФ. На‐ пример, юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный недобросовестным поведением его работника при проведении переговоров (ст. 1068 ГК РФ). В случае, когда вред при проведении переговоров причинен несколькими контрагентами совместно, они отвечают перед потерпевшим солидарно (ст. 1080 ГК РФ)»16. Такое толкование может порождать мнение о деликтном характере преддоговорной ответственности при ведении пере‐ говоров о заключении договора без заключения соглашения об этом. Одна‐ ко, по мнению ученых, причиной изложенной позиции послужило неточное толкование положения, содержащегося в пункте 8 статьи 434.1 ГК РФ, – о возможности применения к отношениям, возникшим при установлении договорных обязательств, правил главы 59 ГК РФ. «Это может означать, что в каких‐то случаях в содержание отношений, складывающихся при установле‐ нии обязательств, могут входить и действия стороны, направленные на при‐ чинение вреда контрагенту по переговорам, и такие действия могут служить основанием возникновения обязательства из причинения вреда. Однако данное законоположение никак не может рассматриваться как устанавли‐ вающее общее правило о деликтном характере ответственности по ста‐ тье 431.1 ГК РФ. Иначе при предъявлении требования о возмещении убытков, причиненных недобросовестными действиями контрагента в ходе перегово‐ ров о заключении договоров, предусмотренных статьей 431.1 ГК РФ или со‐ глашением сторон, сторона всякий раз должна будет доказывать не только недобросовестность таких действий, но и то, что они были направлены на причинение ей вреда»17. При таком подходе отсутствовала бы необхо‐ димость введения в гражданское законодательство института преддоговор‐ ной ответственности, потому что она не отличалась бы от уже существующих видов ответственности, а имела бы отношение лишь к моменту ее использо‐ вания. Так, А. Н. Кучер считает, что «термин “преддоговорная ответствен‐ ность” сам по себе не квалифицирует ответственность как особую, отличную от деликтной, договорной, квазиделиктной или квазидоговорной, а просто указывает на временну́ю стадию, недолжное поведение на которой влечет такую ответственность»18. Однако нам более близок подход, при котором опровергается правильность предыдущего: «Очевидно, что такой подход не соответствует содержанию статьи 431.1 ГК РФ, которая устанавливает ответ‐ ственность за сам факт недобросовестных действий в ходе переговоров о за‐ ключении договора. Согласно пункту 3 статьи 434.1 ГК РФ сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки»19. При харак‐ теристике преддоговорной ответственности следует также не забывать ее функциональное назначение, придающее ей самостоятельную значимость в гражданских правоотношениях, одновременно с договорной и внедоговор‐ ной ответственностью. Введение этого института в гражданский оборот необ‐ ходимо для предотвращения недобросовестного поведения уже на стадии переговоров по заключению договора. Таким образом, принцип добросове‐ стности выполняет свою роль принципа гражданского права как системооб‐ разующего элемента гражданского права, а преддоговорная ответственность является способом защиты, основанным на нем.
В завершение можно сделать вывод о том, что так называемая преддо‐ говорная ответственность обладает определенными особенностями, обу‐ словленными оценочной категорией добросовестности при использовании этой конструкции на практике. Практика применения нормы ГК РФ о пред‐ договорной ответственности не является сегодня единообразной и широкой из‐за неоднозначной оценки добросовестности действий субъектов, участ‐ вующих в переговорах о заключении договора.
Итак, преддоговорная ответственность есть разновидность гражданско‐ правовой ответственности, которая может быть как договорной (при заклю‐ чении соглашения при ведении переговоров о заключении договора), так и внедоговорной (к ней могут применяться правила главы 59 ГК РФ). При этом институт преддоговорной ответственности содержит собственные основания возникновения, которые связаны с недобросовестным поведением одного из участников.
Список литературы Недобросовестное поведение при ведении переговоров при заключении договора
- Витрянский В. В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. 2-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2018.
- Голубцов В. Г. Оценочные понятия в российских кодификациях гражданского права // Lex russica. 2019. № 8. С. 37-50.
- Идрисов Х. В. Проблемные вопросы преддоговорной ответственности: доктринальные подходы и позиции судебной практики // Lex russica. 2018. № 10. С. 98-105.
- Курбатов А. Я. Предпринимательское право: проблемы теории иправоприменения. М.: Юстицинформ, 2022.
- Кучер А. Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. М.: Статут, 2005.
- Лукьяненко М. Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность. М.: Статут, 2010.
- Теория преддоговорной ответственности в свете реформирования Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Издание Государственной Думы (электронное), 2013. URL: http://duma.gov.ru/media/files/7hDE2btStECmAhZBUigCAW8ido0nvL33.pdf.