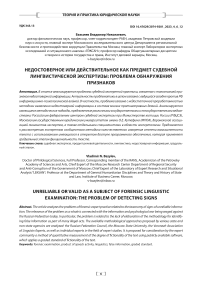Недостоверное или действительное как предмет судебной лингвистической экспертизы: проблема обнаружения признаков
Автор: Базылев В.Н.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 4 (74), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются проблемы судебной экспертной практики, связанные с таксономией признаков недостоверной информации. Актуальность проблематики в целом связана с ведущейся сегодня против РФ информационно-психологической войной. В частности, проблема связана с недостаточной проработанностью методики выявления недостоверной информации в составе многих противоправных деяний. Анализируются имеющиеся методические подходы, предложенные различными государственными и негосударственными ведомствами: Российским федеральным центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции России (РФЦСЭ), Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Воронежской ассоциацией лингвистов-экспертов, а также отдельными специалистами в области экспертологии. Предлагается к рассмотрению экспертным сообществом методика количественного измерения степени вымышленности текста с использованием имеющегося в открытом доступе программного обеспечения, которая применяет градуальный эталон фикциональности текста.
Судебная экспертиза, продукт речевой деятельности, лингвистика, недостоверная информация, градуальный эталон
Короткий адрес: https://sciup.org/14129398
IDR: 14129398 | УДК: 343.13 | DOI: 10.47629/2074-9201_2023_4_6_12
Текст научной статьи Недостоверное или действительное как предмет судебной лингвистической экспертизы: проблема обнаружения признаков
С овременные масс-медиа предлагают адресату-потребителю практически неограниченный объем информации. Объективная, соответствующая действительности информация соседствует с недостоверной. Это происходит сознательно или по «недосмотру» редакции, которая решила сэкономить на фактчекинге. Но это может быть и дезинформация, публикуемая с целью ввести адресата в заблуждение.
Актуальность проблемы – выявление недостоверной информации в процессе судебной лингвистической экспертизы, в целом связана с ведущейся сегодня против РФ информационно-психологической войной. По словам лингвистов, изучающих в последнее время это социальное и языковое явления, «эта война – противоборство сторон, которое возникает из-за конфликтов интересов и/или идеологий и осуществляется путем намеренного воздействия с помощью языковых средств на сознание противника для его когнитивного подавления и/или подчинения, а также путем применения мер информационно-психологической защиты от такого воздействия с противоположной стороны» [6, с. 13].
В частности, проблема связана с недостаточной проработанностью методики выявления недостоверной информации в составе многих противоправных деяний. Последнее имеет значение для теории и практики судебной лингвистической экспертизы, перед которой правоохранительными органами ставится задача выявления значимых доказательственных признаков.
В свою очередь, появление и распространение недостоверной информации в масс-медиа уже вошло в противоречие с серией документов, регламентирующих жизнедеятельность, в первую очередь духовную и интеллектуальную, российского общества. В Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы в качестве одного из приоритетов, реализация которых способствует обеспечению национальных интересов при развитии информационного общества, указано на формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества, получение качественных и достоверных сведений. При этом развитие информационной инфраструктуры РФ осуществляется, в том числе, для недопущения подмены, искажения, блокирования, удаления, снятия с каналов связи и иных манипуляций с информацией [15].
Приоритетным и стратегически важным направлением в обеспечении национальной безопасности РФ в этой связи считается информационная безопасность. Состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз [3]. Это нашло отражение в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 2 июля 2021 года. В числе националь- ных интересов в документе указываются развитие безопасного информационного пространства и защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия [14].
В свете вышесказанного одной из задач отечественного юридического сообщества сегодня является разработка теоретических и прикладных основ соответствующей правоприменительной деятельности. В ее структуре важное место занимает экспертоло-гия, которая исследует продукты речевой деятельности. Целью исследования при этом является помощь следствию в собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств.
В юридической составляющей нашего исследования остановимся на том, как сегодня правоохранительная система реагирует на недостоверную информацию. Не раскрывая детально содержания, так как это не цель нашего исследования, а необходимый бэкграунд, «пунктирно» перечислим то, с чем правоохранительные органы уже имеют дело.
В марте 2019 года вступили в силу поправки, внесенные Федеральным законом от 18.03.2019 № 31-ФЗ в статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В данном случае предусмотрена административная ответственность за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. 1 апреля 2020 года был принят Федеральный закон № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», а также Федеральный закон № 100-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Данным законом статья 13.15 КоАП РФ была дополнена частями 10.1. и 10.2. Она также устанавливала административную ответственность за распространение заведомо недостоверной информации. Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ установлена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (статья 207.1 УК РФ), а также за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации (ст. 207.2 УК РФ). Частью 6 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» установлен запрет на распространение информации и предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Таковы актуальные фрагменты законодательства, которые побуждают следствие все чаще обращаться к экспертам в области исследования продуктов речевой деятельности. Но спектр проблем, под- падающих под деятельность эксперта названного профиля, гораздо обширнее.
Помимоуже названных вышестатей 13.15 КоАП РФ, 207.1 и 207.2 УК РФ, посвященных составу противоправных деяний, в практике эксперта имеются события и факты, о которых идет речь в ст. 20.3.3 КоАП РФ. То же касается ст. 13.48 КоАП РФ, которая, несмотря на отсутствие в диспозиции нормы указания на распространение ложных сведений, подразумевает запрет искажения исторической действительности в части обстоятельств противостояния СССР нацисткой Германии и участия во Второй мировой войне.
Тем самым, правовое обеспечение противодействия распространению недостоверной информации выстраивает систему оперативного пресечения такого распространения, в том числе с реализацией полномочий Роскомнадзора. Здесь следует указать на ст. 15.3; 15.1; 15.2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Этим, однако, события и факты, как бы ни были они актуальны, попадающие в поле зрения эксперта, не ограничиваются. Дело в том, что недостоверная информация присутствует в делах о распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (ст. 5.61.1 КоАП РФ), в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ), в делах о клевете (ст. 128.1 УК РФ).
Указание на наличие заведомо ложных сведений содержится также в следующей серии статей: в ст. 140 УК РФ – отказ в предоставлении гражданину информации; в ст. 159.1 и 159.2. УК РФ – мошенничество <…> предоставление банку или кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. А также в ст. 170.1 и 170.2 УК РФ; ст. 176 УК РФ, ст. 185. 1 и 185.3 УК РФ; ст. 197 УК РФ, ст. 198 УК РФ, ст. 199 УК РФ, ст. 200.6 УК РФ, ст. 207.1, 207.2 и 207.3 УК РФ; ст. 217.2 УК РФ, ст. 287 УК РФ, ст. 292 УК РФ. Во всех случаях речь идет о предоставлении заведомо ложных (недостоверных) сведений. Отдельно стоит указать на ст. 306 УК РФ – заведомо ложный донос, и ст. 354.1. УК РФ – реабилитация нацизма. Нельзя обойти вниманием и статью, имеющую непосредственное отношение к деятельности самого эксперта: ст. 307 УК РФ – заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод.
Сложившаяся объективная ситуация, с одной стороны, вызвала вполне объяснимый «всплеск» соответствующих уголовных и административных дел, которые из-за относительной новизны вынудили следствие прибегать во многих случаях к помощи экспертов. К сожалению, в этой ситуации вновь вскрылось очередное противоречие между желаемым и действительным.
Так, в Методическом письме Министерства юстиции Российской Федерации «Об особенностях судебных лингвистических экспертиз информационных материалов, связанных с публичным распространением под видом достоверных сообщений заведомо ложной (недостоверной) информации» прямо указано: «В компетенцию эксперта не входит юридическая (правовая) квалификация действий, установление вины и ее форм (умысел или неосторожность, вид умысла), мотивов деяния. Так, за пределы специальных знаний эксперта-лингвиста выходят решение вопросов, связанных с установлением заведомо ложной информации, квалификации информации как фейка, выявление признаков фейковой информации, а также проверка информации на соответствие действительности» [8, с. 4]. Там же четко прописано, что «в компетенцию эксперта-лингвиста входит установление того, допускает ли способ подачи информации ее проверку на соответствиедействительности,то есть подаетсяли информация в виде утверждения о фактах и событиях (что подлежит проверке на соответствие действитель-ности)либо в виде мнения.Юридически значимыми являются высказывания, в которых информация выражена в виде утверждения о фактах и событиях, поскольку только такой способ подачи информации позволит правоприменителю установить ее ложность либо достоверность» [8, с. 6]. Юридическое значение в данном случае имеет вопрос в следующей типовой формулировке: «Содержится ли в тексте информация о <…>, выраженная в форме утверждения о фактах и событиях?». Формулировка вопроса конкретизируется за счет подстановки на место пропуска предмета речи, то есть предмет речи определяется правоприменителем, ставящим перед экспертом вопрос, предполагаемый диспозицией соответствующей статьи УК или КоАП РФ. Задача эксперта – на основе имеющейся методики установить наличие/отсутствие формы ут-верждения[11, с. 109-126].
К сожалению, далее в методике наблюдается логический сбой. То есть говорится об установлении наличия/отсутствие формы – формы утверждения. Форма имеет признаки, то есть она идентифицируется по наличию/отсутствию признаков. Признаками считаются материально выраженные значения. Но в отношении языкового знака это неверно. Знак состоит из формы и значения. Это сущность двусторонняя. Форма имеет свои признаки, значение имеет свои признаки. Однако вместо выявления признаков формы и содержания, авторы методики предлагают эксперту выделять компоненты значения в утверждении как форме – объективная семантика предложения (диктумная семантика) и субъективная семантика предложения (модусная семантика). Оставляя без разъяснения, почему выделяются только два компонента, а не все. Кроме того, с точки зрения формаль- ной логики языка, названное – компонентами не является. Первое – это тип. Второе – это категория [4]. Вместо материального выражения вторым этапом исследования предлагается выделить признаки значения, то есть признаки признака. Наконец, на третьем этапе алгоритма исследования предлагается обратить внимание на языковые средства выражения. При этом не специфицируется – выражением чего: признака или признака признака, семантики диктум-ной и модусной или признака значения.
Признаки подменяются эксплицитными способами выражения значения, данными по А.Н. Баранову: глаголы действия (акциональные предикаты) в форме настоящего или прошедшего времени изъявительного наклонения. Или имплицитными способами выражения: пресуппозиции, обязательные следствия и др. [1, с. 40-55].
Как видим, показатели недостоверности информации, то есть признаки утверждения о фактах, в методике отсутствуют. Все сказанное представляет собой не столько критику «методики», сколько свидетельствует о сложности тех задач, которые встают перед экспертом, исследующим продукты речевой деятельности. Специалисты МГЮА имени О.Е. Кутафина справедливо отмечают, «что трудности в детектировании фейкинга как речевого действия заключаются в том, что заведомо ложное сообщение подается под видом достоверных сведений в форме утверждения о фактах или событиях, оформляемого с помощью соответствующих языковых средств <…> при этом утверждение о факте какого-то события или обстоятельства, положения дел в случае фейковой новости может быть как эксплицитным, так и имплицитным <…> так, например, недостоверная информация, подаваемая под видом достоверного сообщения, может быть представлена в форме пресуппозиции, скрытого утверждения, намека или оценочного суждения» [16, с. 81].
Исследование продуктов речевой деятельности в судебной экспертизе по умолчанию ориентируется на таксономию, описание и интерпретацию признаков, значимых для уликовой парадигмы, в которой работает экспертология в целом [12, с. 47-48]. К сожалению, пока что эксперт сталкивается с совершенно различной таксономией признаков, выделенных по разным логическим основаниям, которые присутствуют в методических рекомендациях, подготовленных специалистами различных ведомственных структур. Обратимся к сравнению имеющихся в распоряжении эксперта методических рекомендаций. Не в полном объеме за недостаточностью места, а исключительно в иллюстративных целях.
Так, РФЦСЭ предлагает, как мы проанализировали выше, в качестве «признаков» недостоверной информации рассматривать глаголы действия
(акциональные предикаты) в форме настоящего или прошедшего времени изъявительного наклонения, пресуппозиции, обязательные следствия. Языковые средства со значением уверенности говорящего ( точно, безусловно, конечно, без сомнения ), языковые средства с семантикой знания: уверения в достоверности утверждения ( это факт, это правда, я знаю точно, что …), заверения о наличии фактов ( у меня есть факты, я могу доказать это фактами ), ссылки на всеобщее знание ( все знают, всем известно ), верификаторы, обозначающие факт получения знания ( оказалось, выяснилось, подтвердилось, обнаружилось, было установлено, доказано, узнал, видел, слышал и т. п .) [11, с. 109 сл.].
Специалисты МГЮА, которые предпочитают го-воритьнеопризнаках,аобиндикаторах,перечисляют следующие: «распространение в мeдиaпpocтpaнcтвe, преимущественно в социальных сетях, содержит остро актуальную для целевой аудитории, для множества людей информацию, которая важна именно в данный момент; текст строится по канонам журналистской новости (главное – в начале материала, потом по убыванию); цитирование третьей стороны без указания источника цитаты, имени и должности автора цитаты <…>» [16, с. 81 сл.].
Воронежская ассоциация лингвистов-экспертов рекомендует при производстве экспертизы использовать термин «маркер». При этом предлагается использовать при установлении недостоверной информации следующие маркеры: «содержит информацию, вызывающую сильные эмоции: испуг, страх, возмущение и т. п.; экстраполяция утверждения на геополитическую ситуацию; отсутствие подтверждения или опровержения информации официальными лицами <…>» [13, стр. 8 сл.].
Наконец, отдельные достаточно авторитетные криминалисты (например Е.И. Галяшина) считают, что эксперт имеет дело со свойствами продукта речевой деятельности. В качестве свойств, подлежащих установлению, предлагается выявлять следующие: «привлекающие внимание читателя «броские», «яркие», эмоциональные заголовки (содержат много заглавных букв или восклицательных знаков) с указанием на сенсационность содержания, чаще негативного; использование языка образов (тропы и фигуры речи): метафор, сравнений; псевдонаучныхтерминов; средств художественной выразительности; плана (заголовок или анонс содержат интригу, которая должна задержать внимание читателей или вызывать панику); небрежность текстового оформления, наличие стилистических, грамматических и иных языковых ошибок; абсурдность подачи <…>» [2, с. 29 сл.].
Фиксируемый в ходе нашего аналитического исследования «методик» разнобой в попытках создать алгоритм работы эксперта связан, на наш взгляд с тем, что, как указывает на это С.Н. Нефедов, «специалисты не пришли к стандартизации в судебно-экспертной деятельности в плане судебной лингвистической экспертизы, то есть не имеют адекватного методического обеспечения, неотъемлемыми элементами которого выступают терминология и требования к методике» [9, с. 61]. Он же считает, с чем мы полностью согласны, что «представляется целесообразным стандартизировать достаточно общую структуру, без детализации пошаговой процедуры, т. к. эти шаги (алгоритм) зависят от решаемой задачи <…>» [9, с. 68].
Исходя из этого, мы предлагаем, во-первых, терминологически разграничить для специалиста понятие «правдивость», понимаемое как соответствие реальной действительности и предполагающее возможность верифицируемости информации, и понятие «правдоподобие», когда текстовая информация может быть представлена как правдивая, но при этом являться нерелевантной действительности, правдоподобной только по своей лингвостилистической форме. В таком случае речь идет об эффекте правдоподобия, «псевдодокументальности»: в тексте используются стилистические средства, характерные для информативных, верифицируемых текстов, но их прагматическая направленность заключается не в донесении информации, а в создании для читателя эффекта иллюзии правды. При этом языковые средства, обычно выполняющие информативную, прагматическую функции языка, применяются в эстетической и эмотивной функциях.
Далее, правдоподобие текста предлагается понимать как уникальную системную взаимосвязь элементов реальности и вымысла, в которой соблюдается баланс вероятного и невероятного, отталкивающийся от трех тезисов, предложенных А.Е. Маховым: универсальная модель в отличие от случайного; должное в отличие от существующего в реальности, но лишенного обязательности; то, что согласуется с общим мнением, в противоположность тому, что не может быть принято на веру» [7, с. 15-18]. При этом статусы «вероятного-невероятного»/«правдоподоб ного», по наблюдению Е.В. Золотухиной-Аболиной, «формируются на коллективном уровне и затем проецируются на индивидуальное сознание реципиента текста» [5, c. 151].
Мы считаем, что в судебной лингвистической экспертизе необходимо использовать исключительно количественные индикаторы измерения их правдоподобности текста [10, с. 66]. Как представляется, индикаторами измерения правдоподобия могут быть стилистические приемы, то есть формально языковые и системно-структурные, стереотипно воспринимаемые адресатом как признаки правды или вымысла.
На этом основании существует возможность измерения степени вымышленности текста, что по- зволяет говорить о применении компонентного анализа и создания градуального эталона фикциональ-ности текста, а также о принципиальной возможности выявления языковых приемов создания эффекта «правды» и «вымысла» в тексте, баланс которых и делает его более или менее «правдоподобным» на градуальной шкале. На предлагаемой шкале с одной стороны находится правдивый документальный текст, то есть речевой акт, в котором актуализированы прагматические функции коммуникации, соотносящие его с явлениями действительности, и доминирует информативная функция языка. Вымысел в таком тексте может быть представлен в форме абстрактных понятий и/или предполагаемых действий. В целом здесь больше подходит термин «результат мышления», чем «вымысел», слишком близкий к понятиям «воображение» и «фантазия».
Саму методику анализа можно представить в виде шкалы, демонстрирующей характеристики типов фикционального и нефикционального текстов как ее градуальных полюсов, между которыми будет находиться все множество текстов, характеризуемых как достоверные, правдивые, документальные, правдоподобные, псевдодокументальные, вымышленные, ложные и другими возможными определениями.
Так, правдоподобные (нефикциональные) тексты характеризуются такими количественными признаками, как:
-
• превалирование информативной функция языка; эстетическая и экспрессивная функции языка вторичны и могут не приниматься во внимание в процессе чтения (восприятия);
-
• соотнесенность с действительностью, то есть
с экстралингвистической ситуацией;
-
• возможность верифицикации (здесь в каче стве инструмента используется программное обеспечение, дающее доступ и обеспечивающее процедуру идентификации на больших базах данных).
Неправдоподобные (фикциональные) тексты характеризуются такими количественными признаками, как:
-
• доминирование эстетической и экспрессив ной функции языка (это позволяет установить, например, такое программное обеспечение как Voyant Tool);
-
• мнимость речевых актов (конститутивно-кон -дициональный режим литературности, то есть индивидуальный авторский стиль, слог, интенция);
-
• лингвостилистические приемы, эксплицирую щие для адресата тему текста, содержание текста, заданные цели чтения текста, рему, дискурс и установку на понимание текста.
Переходную грань от документального верифицируемого текста к произведению, читаемому в режиме «отказа от недоверия», можно выявить и обо- значить, отталкиваясь от доминирующей функции языка в тексте, определяемой авторской позицией. Если превалирует информативная функция, то текст находится в поле верифицируемой информации. Если доминирует эстетическая функция, то текст находится в поле недостоверности восприятия.
Примером могут служить газетные «утки», фейковые новости или так называемые альтернативные факты,создаваемые в дискурсе новостныхмасс-медиа с помощью приемов газетного функционального стиля. В таких случаях происходит мимикрия недостоверного текста в языковой формат информационных сообщения. Например: «Пашинян заявил, что не подписывал указ о вводе войск ОДКБ в Казахстан», – гласит заголовок новостной статьи, при этом указанные референты существуют в реальности, но взаимосвязь их действий реализована только в синтаксисе заголовка и является продуктом языкового творчества.
В заключение подчеркнем, что текст, представляющий собой недостоверную информацию (фикцио-нальный текст, фейк), – это инструмент выстраивания элементов действительности, инструмент дезинформации, парафраз реальности. Правдоподобие в данном случае обеспечивается за счет стилистических (формально языковых) средств, которые подлежат количественному (статистическому) анализу, и представляют собой системно-структурное заимствование из числа характерных для информационно-прагматического типа текста. В документальном (соответствующем действительности), нефикциональном тексте используются исключительно языковые средства, необходимые как инструмент обобщения, выстраивания фактуальной информации в общую верифицируемую картину мира. Разумеется, они могут быть использованы в определенной, но не главной мере, для привлечения внимания и мотивации адресата. В обоих случаях правдоподобие обеспечивается лингвостилистическими приемами информативно-прагматических жанров, но в разном количественном соотношении. Тем самым, модус прочтения текста уже задан автором в структуре текста, хотя и воспринимается адресатом в зависимости от предшествующего опыта чтения.
Список литературы Недостоверное или действительное как предмет судебной лингвистической экспертизы: проблема обнаружения признаков
- Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста. - М.: Флинта, 2007. -592 с. EDN: PWFJSF
- Галяшина Е.И. Феномен "фейка" в аспекте судебной лингвистической экспертизы // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: Материалы Международной научно-практической конференции. - М.: МГЮА, 2019. - С. 26-31. EDN: KVNUYK
- Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 // СЗ РФ. - 2016.- № 50. - Ст. 7074.
- Жеребило Т.В. Термины и понятия лингвистики: Синтаксис: Словарь-справочник. - Назрань: ООО "Пилигрим", 2011. - 420 с.
- Золотухина-Аболина Е.В. Проблема вымысла // Epistemology & Philosophy of Science. - 2010. - № 1. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article- problema-vyinysla (дата обращения: 05.10.2023). EDN: MGUWAT
- Лингвистика информационно-психологической войны / А.А. Бернацкая, Ю.А. Горностаева, И.В. Евсеева [и др.]; под ред. проф. А.П. Сковородникова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2020. – 344 с.
- Махов А.Е. Категория правдоподобия // Studia Litterarum. – 2020. – № 2. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/ article/kategoriya-pravdopodobiya (дата обращения: 03.10.2023).
- Методическое письмо «Об особенностях судебных лингвистических экспертиз информационных материалов, связанных с публичным распространением под видом достоверных сообщений заведомо ложной (недостоверной) информации» ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. [Электронный ресурс]. URL: https://ceur.ru/library/docs/departmental_regulations/metodicheskoe-pismo-ob-osobennostyax-sudebnyx-lingvisticheskix-ekspertizinformaczionnyx-materialov-svyazannyx-s-publichnym-rasprostraneniem-pod-vidom-dostovernyx-soobshhenijzavedomo-lozhnoj-nedostovernoj-informaczii/ (дата обращения: 13.10.2023).
- Нефедов С.Н. Стандартизация методического обеспечения судебно-экспертной деятельности // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – 2016. – № 1. – С. 61-72.
- Плотникова А.М., Кузнецов В.О. Семантические исследования в судебной лингвистической экспертизе.- М.: РФЦСЭ, 2018.- 140 c.
- Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) / Под ред. Е.Р. Россинской. – М.: Норма, 2016. – 320 с.
- Стернин И.А., Шестернина А.М. Маркеры фейка в медиатекстах. – Воронеж: ООО «РИТМ», 2020. – 34 с.
- Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2023 годы» // СЗ РФ. – 2017. – № 20. – Ст. 2901. – Пп. 22, 28.
- Фейковизация как средство информационной войны в интернет-медиа: научно-практическое пособие / Галяшина Е.И. Никишин В.Д., Богатырев К.М., Пфейфер Е.Г. – М.: Блок-Принт, 2023. – 144 с.