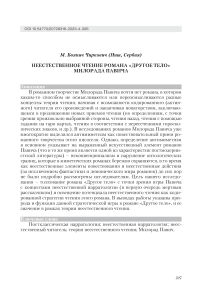Неестественное чтение романа «Другое тело» Милорада Павича
Автор: Боянич Чиркович М.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
В романном творчестве Милорада Павича почти нет романа, в котором каким-то способом не осмысливаются или переосмысливаются разные концепты теории чтения, начиная с возможности кодированного (активного) читателя его произведений и заканчивая новаторством, заключающемся в продвижении новых приемов чтения (по определениям, с точки зрения произвольно выбранной стороны, чтения назад, чтения с помощью гадания на таро картах, чтения в соответствии с пересечениями гороскопических знаков, и др.). В исследованиях романов Милорада Павича уже многократно выделялся антимиметизм как повествовательный прием романного творчества этого писателя. Однако, определение антимиметизм в основном указывает на выраженный искусственный элемент романов Павича (что в то же время является одной из характеристик постмодернистской литературы) - неконвенционализм и нарушение онтологических границ, которые в миметических романах бережно охраняются, в то время как неестественные элементы повествования и неестественные действия (за исключением фантастики и демонического мира романов) до сих пор не были подробно рассмотрены исследователям. Цель нашего исследования - толкование романа «Другое тело» с точки зрения игры Павича с концептами неестественной нарратологии (в первую очередь мертвым рассказчиком) и освещение потенциала неестественного чтения как кодированной стратегии чтения этого романа. В выводах работы указаны природа и функция данной стратегической игры в романе «Другое тело», и ее значение в рамках теории неестественного чтения.
Постклассическая нарратология, неестественная нарратология, неестественный читатель, теория неестественного чтения, милорад павич
Короткий адрес: https://sciup.org/149144360
IDR: 149144360 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-326
Текст научной статьи Неестественное чтение романа «Другое тело» Милорада Павича
Неестественный читатель (unnatural reader) как методологическая основа работы
Одно из направлений постклассической нарратологии, прагматически и когнитивно ориентированное, специализируется на исследованиях чтения «неестественного» нарратива, а также на описании этого процесса, обозначенного как «неестественное» чтение [Nielsen 2014, 239]. Исследования неестественного в нарративе, а также неестественного нарратива в контексте посткласических нарратологических теорий, становятся актуальными в начале XXI в., и свое полное признание получают запуском проекта «Unnatural Narratology» («Неестественная наррато-логия») в Университете Орхуса в Дании. Здесь имеются в виду иссле- дования немиметических нарративов Б. Ричардсона [Richardson 2006] которые однозначно составляют основу, из которой несколько лет спустя произросли теоретические концепты неестественной нарратологии. Ричардсон определил неестественные нарративы как антимиметические тексты, нарушающие показателей традиционного реализма, или превышающие традиции естественного нарратива как формы самопроизвольного устного повествования. Понятие неестественная нарратология (unnatural narratology) оригинально было введено как семантический противовес естественной нарратологии (natural narratology) М. Флю-дерник [Fludernik 1996], а также как противовес миметическому нарративу как прообразу проявления нарратива. По отношению к более узкому значению определения антимиметический (антиреалистический) нарратив (то есть, способ нарративного представления), который в первую очередь относится к игре с традицией миметического представления (преувеличении, пародии), неестественный нарратив как более широкое определение относится к тем элементам нарратива, которые в физическом или логическом смысле невозможны в реальном мире, или на такие приемы организации мира повествования.
Неестественность нарратива измеряется на фоне «естественных» элементов повествования, основанных на показателях реального мира:
An unnatural narrative violates physical laws, logical principles, or standard anthropomorphic limitations of knowledge by representing storytelling scenarios, narrators, characters, temporalities, or spaces that could not exist in the actual world [Alber].
Представление неестественности, по словам Альбера [Alber], обнаруживается неестественными нарратологами на уровне рассказа и дискурса в двух разных формах: как физическая, логическая и эписте-мическая невозможность, заложенная в постмодернистский нарратив, которая еще не была конвенционализирована, то есть переведена в базовые когнитивные рамки (и поэтому она нам все-еще кажется «остра-ненной»), или как физическая, логическая и эпистемическая возможность, которая со временем становится узнаваемой формой повествовательного представления, как, например, речь животных в сказках, традиционный всезнающий рассказчик, время путешествия в научной фантастике, и др.
Приведем еще некоторые примеры представления неестественного на уровне рассказа и дискурса из того перечня, который составила проектная команда неестественных нарратологов:
Таблица № 1 : Неестественные элементы нарратива
|
Неестественное на уровне сюжета: |
Неестественное на уровне дискурса: |
|
персонажи – говорящие трупы; персонажи, превращающиеся в другие существа, или обладающие многочисленными несовместимыми вариантами сосуществования [Iversen]; ретроградная темпоральность (время назад); смешанные временные линии («chronomontages»); противоречивые темпоральности, состоящие из взаимоизключающих происшествий, или последовательных событий; дифференциальные временные линии, в которых жители одних и тех же миров повествования стареют с разной скоростью; географические пространства, которые не могут быть актуализированными; металепсические прыжки между отдельными зонами. |
неестественные нарраторы: говорящая машина, исключительно красноречивый ребенок, ребенок без мозга, женская грудь, мертвый или еще не родившийся рассказчик; телепатическое повество вание от второго лица; мы-нарративы, где «мы» относится к умам людей, которые жили в период примерно 1000 года [Richardson 2006; Alber]. |
Несмотря на то, что неестественные нарратологи не пришли к согласию в связи с вопросом как подойти к анализу неестественных нарративов, их взгляды все-таки совпадают с решающей ролью читателя в выявлении и определении неестественного в сюжете или дискурсе. Уже на основе приведенного Альбером определения неестественного нарратива косвенно можно прийти к выводу о том, что его естественность / неестественность обусловлена читательским когнитивным ограничениям и знаниям, сформированным на базе телесного существования в мире. Значит, первичным критерием идентификации неестественного является возможность читательской актуализации данного элемента повествования [Alber].
Кроме «составления списка» неестественных элементов, упомянутые нарратологи особенно заинтересованы в том, чтобы указать на вклад неестественного чтения в реорганизацию и / или комбинацию существующих ограничений и знаний, а также созданию новых когнитивных параметров. Это приводит к выводу о том, что неестественный нарратив (то есть неестественное чтение) априори заставляет читателя задуматься, точнее, поощряет его творческий потенциал. Однако исследования, рассматривающие неестествизирующие (неестественные) стратегии чтения и результаты такого чтения, являются редкими среди неестественных нарратологов. В этом материале особое значение имеет проведенное Нильсеном точное описание неестественного чтения рассказа «Овальный портрет» Эдгара Аллана По. Например, в контексте нарратива от первого лица, каким является нарратив этого рассказа Эдгара По, и учитывая то, что рассказчик в этом рассказе тяжело ранен, неестественное чтение перенаправляет читателя с отождествления повествовательского «я» с раненым литературным персонажем на утверждение допущения о некотором неестественном первом лице – голосу, который не исходит от персонажа, но со всеми ограни- чениями повествования от первого лица придумывает рассказ «Овальный портрет». Эффект неестественного чтения рассказа Эдгара По обнаруживается Нильсеном в восприятии этого рассказа как придуманного и независимого от реального мира. С этой точки зрения нет никакой неопределенности в рассказе, особенно в связи с тем, кто является рассказчиком. Пожалуй, самое важное в неестественном чтении – это измененная роль читателя: читатель больше не относится к повествованию с учетом реальных когнитивных ограничений и параметров, которые нарратив естестви-зирует, и таким образом преодолевается вся его неопределенность. Поэтому неестественное чтение отходит от погружения в мир нарративного текста, рассматривая его как текстуальное пространство для исследования новых возможностей повествования. В ходе этого процесса читатель вступает в активные отношения с текстом, но эти отношения приобретают форму, похожую на спор. Для разногласия и спора такого рода необходимым условием является наличие литературно-теоретического знания. Поэтому можем прийти к выводу о том, что неестественное чтение подразумевает информированного читателя, владеющего большим теоретическим знанием (специалиста в области науки о литературе, точнее – литературоведа), интеллектуально способного рассматривать область и результаты «неестественного» в конкретном нарративе и его вклада в нарратологию.
Смерть рассказчика «Другого тела» как вызов неестественной нарратологии
Роман «Другое тело» является почти образцом неестественного нарратива, в роли повествователя в нем выступает мертвый рассказчик, предстающий на сороковой день после собственной смерти. Такой рассказчик вызывает гораздо более сложную проблему, чем во всех уже рассмотренных случаях интерпретации выбора рассказчика в контексте неестественной нарратологии.
(Авто)биографический нарратив рассказчика, то есть повествование о его жизни, а также о совместной жизни с Лизой Свифт, функционирующий в структуре «Другого тела» как внутренний рассказ, вводится путем звука сотового телефона: Лизе будто бы звонит муж, уже сорок дней покоящийся на белградском кладбище по улице Рузвельта. Мотив звука является одним из семантических ядер «Другого тела», и играет значительную композиционную роль. В композиционном смысле, мотив звука в «Другом теле» предвещает нарративные узлы, завязку и развязку, то есть, учитывая кольцевую композицию романа – завязки и развязки. Мотив звука в «Другом теле» предвещает смерть Захария Орфелина, смерть Гаврилы Стефановича Венцловича, смерть рассказчика, а также осознание Лизой существования другого тела. Мертвый рассказчик, мотив звука и символика числа сорок (в контексте романа, а также и с точки зрения сербской этнографическо-антропологической традиции и христианской религии – сорок дней после смерти) направляют чтение романа «Другое тело» к (посмертной) исповеди искателя другого тела. В более широком антропологическо-этнографическом контексте чтение судьбы, как можно определить поиск другого тела, не подразумевает пассивное, неминуемое принятие человеком фатума, но, как свидетельствуют данные древнейших времен, по отношению к судьбе остается возможность активного действия человека (перенаправление, осознание). Видами таких действий являются магические процедуры гадания и колдовства [Јовановић 1992, 29]. Все искатели другого тела колдуют, и поэтому можно сделать вывод о том, что их связывает действие как один из видов активного отношения к судьбе. Магические предметы, которыми они пользуются в этих целях, – мантры, вода с источника Богоматери и биоэнергетическое каменное кольцо. Однако ни один из искателей, которые в романе «Другое тело» обращаются к магическим процедурам узнавания будущего, не добивается успехов в этом намерении – смерть их опережает. Если остановимся подробнее на поисках главных героев, Милорада Павича и Лизы Свифт, мы увидим, что только «поиск» рассказчика сопровождается осознанием другого тела. Последний этап поиска рассказчика разворачивается в ходе «проводов души», в сороковины, то есть на границе двух миров: земной реальности и мира мертвых. С антропологическо-этнографической точки зрения, душа присутствует в земной реальности в течение сорока дней после смерти и сохраняет свои индивидуальные черты до полугода. Панихида по истечении сорока дней считается главным ритуалом в отрыве души покойника от земной жизни. Согласно народной традиции ритуалы, сопровождающие проводы души в мир мертвых, имеют функцию коммуникации с душой умершего. В «Другом теле» данный вид коммуникации (в контексте романа – между рассказчиком и главным героем) осуществляется как на символическом, так и на эмпирическом уровнях. Рассказчик знакомит Лизу Свифт с собственным осознанием другого тела с помощью света синего цвета, а также поцелуя в шею, представленного сквозь призму Лизиного ощущения и «восприятия» этого касания. Свет на кольце в конце романа, символизирующий благословение «с той стороны» (покойным супругом) и торжественность акта любовной сцены между Лизой и Теодором Чешляром (в блиндаже в деревне Бабе рядом с горой Космай), наряду с красным цветом (представленным в романе как символ счастья, тогда как в народной и христианской традициях, а также в психоанализе красный свет символизирует жизнь), обозначает метафорический переход души рассказчика на высший уровень земного, а также служит подтверждением существования другого тела (жизни) в упомянутом промежуточном пространстве. Данная сцена как будто разворачивается на основе народной традиции: спустя сорок дней после смерти члена семьи происходит реорганизация участников сообщества в профанную реальность. В таком контексте надо понимать и упомянутую вспышку – благословение. Вспышка света на кольце, изменение его цвета и поцелуй в шею – это момент осознания и единения, то есть, осознания единства освобожденной души и ее другого земного тела, с которым она соединяется посредством поцелуя, касания и любви. Поэтому счастье, символически обозначенное красным цветом кольца, на самом деле является счастьем души и счастьем другого тела, shin-a (shin – предпоследняя буква еврейского алфавита и начальная буква еврейского обозначения двойственности (shanaim) [Павич], образовавшегося в результате единения души с другим телом):
Так Лиза узнала наблюдателя. Это я смотрел на Лизу, сидящую в этом шезлонге из плетеных прутьев. И Лиза могла не только видеть то, что я видел (то есть, нее), но и думать о том, о чем я думал. Чувствовать то, что я в тот момент чувствовал. Как в этих сновидениях, где Лиза и я превращались один в другого [Павич].
Накануне перехода к третьему этапу отрыва от земного мира душа рассказчика в первый и последний раз осознает Единое, то есть пребывает в Едином, целом, неделимом, в другом теле. В контексте неестественности в нарративе так может быть обозначена транскрипция момента смерти рассказчика, ведь она передается через его ощущения, а ее будто бы записывает Лиза. Транскрипция момента смерти характерна для поэтики романов Павича и представлена также в «Хазарском словаре», где ее приносит ловец снов. Однако статус ее внутри этого романа является иным по сравнению с нарративом о моменте смерти в «Другом теле». Лиза Свифт не ловец снов, и этот минус-элемент нарратива «Другого тела» осложняет естественное восприятие той части нарратива как ощущения (и испытания) момента смерти. Поэтому мы можем прийти к выводу о том, что в, казалось бы, неестественном нарративе – посмертной исповеди, находится еще более неестественная часть описания момента смерти, данная с точки зрения умершего, и якобы записанная рукой Лизы. Образ Лизы в «Другом теле» отличается по природе от ловца снов, читателя, техники которого (хотя сверхъестественные) мы можем без затруднения воспринять как естественные в процессе чтения благодаря их частому использованию в романах Павича.
Техника всезнающего мертвого рассказчика может казаться более естественной именно в контексте «набожного романа» (поджанровое определение другого, дополненного издания «Другого тела» (2008)), с темой поиска другого тела, то есть осознания возможности его воплощения. Иначе она определяется в нарративной традиции. Неестественные нарратологи считают всезнающего рассказчика неестественной, но конвенционализированной нарративной техникой. В контексте нарра-тологических учений всезнающий рассказчик обозначается как некто, который «знает (практически) все о представленных ситуациях и происшествиях», и «со всезнающей точки зрения выражает больше, чем знают все остальные персонажи, взятые вместе» [Prins 2011, 194]. Если, по определению, всезнающий рассказчик стоит вне представленных ситуаций и происшествий или над ними, тогда он обладает способностью входить в сознание других персонажей, при этом не являясь автором романа, и не обязательно должен быть воплощен в теле. Мертвый рассказчик, дающий о себе знать сорок дней спустя собственной смерти, с христианской точки зрения представляет собой если не всезнающего, то тогда точно кого-то, обладающего более «естественным», глубоким и широким пониманием Смысла (Промысла), чем любой другой традиционный всезнающий рассказчик. Вследствие своего статуса покойный, душа которого странствовала сорок дней, и который путем звука (а потом и смены цвета на биоэнергетическом кольце) объявляется накануне своего ухода из этого мира, обладает одним преимуществом по отношению к любому традиционному всезнающему рассказчику – он может видеть то, что происходит в течение сорока дней после смерти. В контекте романа «Другое тело» такой выбор рассказчика функционирует как «узаконение» рассказа о существовании другого тела, того последнего, рассказа Лизы и М.-а. С точки зрения «неестественной» нарратологии, в нарративном мире романа Милорада Па-вича «мертвый рассказчик» своим повествованием полностью естественно узаконивает (делает достоверным) мир рассказа «Другого тела»; такой выбор рассказчика на самом деле придает миру романа статус высшей истины. Остановимся подробнее на дихотомии «повествовательный голос / повествовательный способ» и рассмотрим ее в более широком контексте христианства и мистицизма как определяющую центральные тематические нити романа. Модус всезнающего нарратора, парадоксально – мертвого, в «Другом теле» представлен как выбор, полностью соответствующий намерению имплицитного автора и идее текста, и, между прочим, это является рассмотрением возможности существования (обнаружения) другого тела с нескольких аспектов. С другой стороны, в соответствии с нарративной традицией, мертвый рассказчик «Другого тела» обладает только голосом (звуком), который превращается в «мясо» (слово) благодаря Лизе, ее руке, а также ее осознания, ведь чтобы исповедь могла быть написана, надо сначала услышать звук, а он может быть услышан только избранными (Захарией, Забетой, Гаврилой, Лизой). Определение Лизы Свифт как автора романа Другое тело на самом деле имеет более глубокий смысл – Лиза записывает то, что узнает, слышит и осознает благодаря голосу покойного рассказчика, то есть звуку, и поэтому является редактором его записей и стенографом его рассказов о барочных и христианских искателей другого тела.
Покойный всезнающий нарратор пользуется всеми преимуществами, которые ему даны таким статусом (как в традиционном нарратологиче-ском смысле, так и в контексте христианского понимания «души на пути», то есть «пути души»). Нарратор становится ловцом снов, который объясняет и расшифровывает сон Лизиной подруги Лидии (будто бы с точки зрения Лизы): «… ей снилось Эгейское море, исполенное каким-то холодным вчерашним дождем, потом ей снилось, что она пьет воду с источника Богоматери, ту, из правого крана» [Павич]. Потом рассказчик повествует через образ Лизы, освещая при этом некоторые ее размышления, навеянная сном: «Когда проснулась, она подумала, что если, может быть, попробует воду из всех трех источников, она узнает какой из них приносит счастье, какой любовь, а какой здоровье» [Павич]. «Погружение» в сон Лидии мотивируется озабоченностью рассказчика, его поиском другого тела. Поэтому использование Лизиного образа в качестве наблюдателя сна Лидии является всего лишь одной из масок рассказчика; в моменте повествования о сне Лидии, рассказчик-покойник, ловец снов, крайне заинтересованно наблюдает и за тем, кому снится сон, и за предполагаемым наблюдателем. Об интересе рассказчика к сну Лидии свидетельствует и его «задержка» в нем и на следующие две ночи (всего на три ночи, что опять обращает наше внимание на значение христианской символики этого числа на семантическом уровне романа), с целью найти еще один возможный ответ на вопрос о существовании другого тела. Пространство сна Лидии покидается рассказчиком в момент замены ею изголовья, что символически обозначает отказ от поиска другого тела.
Рассмотрим подробнее функцию и семантику выбранного способа повествования и голоса повествователя в «Другом теле». На вопрос, чей голос ведет повествование, ответ однозначный: это голос мертвого рассказчика. Парадоксально, «тело», то есть слово рассказа, тоже относится к рассказчику, но оно написано рукой другого, но опять-таки его тела – Лизиного. Если говорить о точке зрения, она поперемено переходит от рассказчика к Лизе, и обратно, а в контексте вставных рассказов обнаруживается и точка зрения Захария и Анны, то есть Гаврилы и Аксиньи. Это наблюдение проливает еще больше света на природу нарративного «голоса» «Другого тела»: он, в соответствии с поэтикой неоднозначности Милорада Павича, и здесь удваивается. Признак двойственности с точки зрения поэтики Павича априори придает значение чего-то особенного, выделенного, а «истине», удвоенно осознанной (либо взглядом, либо чувством, либо удвоенным голосом), придает статус «высшей», «настоящей», «глубинной». Лизина предполагаемая функция «писателя», рассматриваемая после всех упомянутых наблюдений, никак не проста. Эта героиня-писатель также не может быть простым стенографом чей-то исповеди. Рассказчик объявляется посредством звука, а звук может быть услышан только избранными, с врожденным внутренним чувством к глубинному, высшему, потустороннему. Осознание (звук «исповеди») происходит в ином месте, во вневременном плане, границы которого опять же определяются звуком. Кроме моделирующей роли (заключающейся во введении читателя во вневременной план и возвращении из него в реальность на последних страницах романа), мотив звука (голоса и «мяса», слова) играет роль и центростремительного ядра всех нарративных потоков «Другого тела», то есть всех рассказов – поиск этого тела. Таким образом, Лизе как «автору» романа придается статус демиурга, который из записей, монологов, диалогов рассказчика, а также его «исповеди через звук» создает один из возможных вариантов рассказа о другом теле. Так как она становится «мясом» тела, Лизе предоставляется возможность касания «души» тела, звука, Осознания.
Какую роль играют «неестественные» нарративные приемы «Другого тела» в процессе чтения? Ответ на этот вопрос, опять же в соответствии с поэтикой Павича, является неоднозначным. Примыкание к читателям, которым «набожный роман» «Другое тело» явно адресован, подразумевает еще один «дополнительный» договор с рассказчиком, кроме уже упомянутого Калером; примыкание к читательской публике здесь подразумевает не только «договоры о вере» в смысле доверия к рассказчику, но и веру в существование более «глубокой» и «высшей» истины, конкретизированной в романе в виде поиска существования другого тела. Кроме того, примыкание к читательской публике возможно лишь при готовности поиска в семантических потоках мотива другого тела, и, может быть, готовности развивать этот рассказ своими собственными поисками (в той степени, в которой роман своим всеобщим значением позволяет). Об этом, например, пишет в своих исследованиях А. Татаренко. По отношению к нескольким стратегиям чтения «Другого тела», на которые ссылается Татаренко, и которые многократно уже были предметом исследований (чтение через призму христианства, мистицизма; эргодическая стратегия «Другого тела», интертекстуальность, автобиографическая и постпостмодернистская точки зрения), новаторством в рамках восприятия этого романа характеризуется ее стратегия чтения через отсылки, активирующие вставные, которые Татаренко называет «гипертекстовым экспериментом восприятия» [Татаренко 2013, 260]. Такими являются, например, нарративы скрытые в названии парижского кладбища Пер Лашес (Cimetière du Père-Lachaise), а отсылкой к задержке внимания читателя (александрийского, семиотического) на этом месте в романе является ошибка в написании оригинального названия кладбища.
С учетом того, что в нарратив о другом теле нас вводит звук, мы задаемся вопросом: заметит ли его читатель? Отсутствие веры (в самом широком смысле) исключает читателя из группы «желательных». Поэтому на основании такого «чтения» «Другого тела» можем прийти к выводу, что это единственный роман Павича, который подразумевает определенного читателя, так как отсутствие христианских (и шире, религиозных) рамок, незнание литературной традиции и поэтики Павича (начиная с «Хазарского словаря» и далее) значительно сужает семантический потенциал и восприятие «Другого тела», амплитуда которого характеризуется большим диапазоном, в котором христианская, мистическая и барочная линии являются всего лишь одними из многих его семантических направлений.
Заключение
С учетом того, что мы коснулись открыто выраженных жанровых рамок романа «Другое тело» и что в романе мы выделили в качестве вставного рассказа исповедь души рассказчика спустя сорок дней после его смерти, подробнее рассмотрим этот эпизод, чтобы определить не только характер этой исповеди, но и ее функцию в более широком (романном) жанровом контексте, а также в соотношении эмпирический автор – читательское восприятие. В своей работе об автобиографическом романе Доситея Обрадовича Милорад Павич [Павић 1976, 238] записал следующее наблюдение: «вместо человека разума, вместо ‘глаз ума’, здесь говорит ‘сердце чувствительное’, религия сердца, которой несколько страниц спустя воздается полное почтение в тексте, которому можно было совсем программно присвоить название похвала чувству». В продолжение наблюдений Павича следует цитата из романа Доситея, где рассказчик обращается к ощущениям и сердцам читателей. Роман «Другое тело», рассматриваемый через призму наблюдений Павича-ученого в связи с поэтикой Доситея и его поэтическими опорами, с его укрывательствами и редкими моментами «похвалы чувствам», можно назвать творческим ответом на «рационалистическую» автобиографию «Жизнь и приключения», написанную «глазами ума» с периодическими отражениями моментов, увиденных «сердцем чувствительным». «Автобиография», то есть, внутренняя история рассказчика о другом теле, в целом повествуется не только «сердцем чувствительным», но к нему и обращается.
В самом процессе чтения мертвый рассказчик, вследствие явных отсылок к антропологическо-культурологическим и религиозным матрицам (если читатель с ними знаком, то есть если он входит в славянский и христианский культурный и религиозный круг), становится полностью естественным, что является парадоксальным по отношению к пониманию этого концепта с точки зрения неестественной нарратологии. На самом деле сама форма исповеди, в соответствии с которой писался роман «Другое тело», «усилена» культурологическими и религиозными рамками, в которых хождение души покойника сорок дней после его смерти рассматривается как антропологическо-этнографический религиозный факт. В процессе чтения посмертная исповедь умершего рассказчика, данная от первого лица единственного числа, подразумевает эмпатическо-этическую модель чтения (конечно, при условии знакомства читателя с упомянутыми культурологическими и религиозными знаками). Выбором мертвого персонажа в качестве рассказчика в романе «Другое тело» не исчерпывается потенциал неестественного чтения, а указывается лишь на то, что о статусе и функции неестественных элементов в нарративе нельзя говорить вне контекста – культурологического, религиозного, а также читательского горизонта ожиданий и ряда когнитивных (естествизирую-щих) рамок.
Список литературы Неестественное чтение романа «Другое тело» Милорада Павича
- Joeanoeuk Б. Српска каига мртвих. Ниш: Градина, 1992. 160 с.
- ПавиН М. ^зичко памЬеае и песнички облик. Нови Сад: Матица српска, 1976. 492 с.
- Павич М. Другое тело / пер. Л. Савельевой. URL: https://www.e-reading. club/book.php?book=1004103 (дата обращения: 04.01.2017).
- ПщановиН П. ПавиЬ. Београд: Филип ВишаиЬ, 1998. 407 с.
- Татаренко А. Поетика форме у прози српског постмодернизма. Београд: Службени гласник, 2013. 372 с.
- Alber J. Unnatural Narrative // The Living Handbook of Narratology. URL: http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/unnatural-narrative (дата обращения: 15.02.2018).
- Fludernik M. Towards a 'Natural' Narratology. London: Routledge, 1996. 470 p.
- Iversen S. Narratives in Rhetorical Discourse // The Living Handbook of Narratology. URL: http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/narratives-rhetorical-discourse (дата обращения: 12.01.2018).
- Nielsen H.S. The Unnatural in E.A. Poe's The Oval Portrait // Beyond Classical Narration: Transmedial and Unnatural Challenges / ed. by J. Alber, P.K. Hansen. Berlin; Boston: De Gruyter, 2014. С. 239-260.
- Prins Dz. Naratoloski recnik. Beograd: Sluzbeni glasnik, 2011. 272 c.
- Richardson B. Unnatural Voices: Extreme Narration in Modern and Contemporary Fiction. Columbus: The Ohio State University Press, 2006. 161 p.