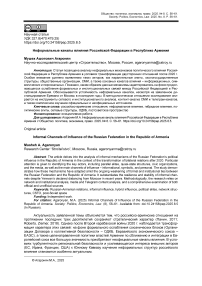Неформальные каналы влияния Российской Федерации в Республике Армения
Автор: Агаронян М.А.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 8, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу неформальных механизмов политического влияния Российской Федерации в Республике Армения в условиях трансформации двусторонних отношений после 2020 г. Особое внимание уделено выявлению таких акторов, как параллельные элиты, окологосударственные структуры, общественные организации, СМИ, а также основных каналов влияния – информационных, символических и персональных. Показано, каким образом данные механизмы адаптировались на фоне продолжающегося ослабления формальных и институциональных связей между Российской Федерацией и Республикой Армения. Обосновывается устойчивость неформальных каналов, несмотря на заявленное дистанцирование Еревана от Москвы в последние годы. В методологическом отношении исследование опирается на инструменты сетевого и институционального анализа, контентанализ СМИ и телеграмканалов, а также комплексное изучение официальных и неофициальных источников.
Российско-армянские отношения, неформальное влияние, гибридное влияние, политические элиты, сетевые структуры, ОДКБ, постсоветское пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/149148900
IDR: 149148900 | УДК: 327.8(470:479.25) | DOI: 10.24158/pep.2025.8.5
Текст научной статьи Неформальные каналы влияния Российской Федерации в Республике Армения
Однако неофициальные, неформальные каналы политического влияния остаются фрагментарно освещенными, в основном в журналистских расследованиях и отдельных экспертных комментариях. Научных исследований, интегрирующих этот феномен в системную теоретическую рамку, недостаточно.
В отличие от официальной дипломатии и формализованных договорных обязательств неформальные каналы влияния представляют собой скрытые или полускрытые механизмы воздействия на внутриполитические процессы в иностранном государстве. К числу таких инструментов относятся неинституционализированные контакты, персональные сети, непрозрачные финансовые потоки, целенаправленные информационные кампании, а также использование так называемых агентов влияния в среде национальных элит и гражданского общества. Эти каналы представляют собой элементы гибридного или мягкого воздействия, зачастую функционирующие параллельно с официальной внешнеполитической линией или даже в противоречии с нею (Yengoyan, 2024).
Республика Армения начиная с распада Советского Союза и вплоть до событий «бархатной революции» 2018 г. оставалась глубоко интегрированной в сферу влияния Российской Фе-дерации1. Однако после прихода к власти Н. Пашиняна и особенно после Второй карабахской войны 2020 г. в армянском информационном пространстве при поддержке контролируемых государством медиа, аффилированных неправительственных организаций и отдельных лидеров общественного мнения активизировалась кампания, направленная на формирование антирос-сийских настроений (Giragosian, 2024). В ее рамках Россия подвергалась обвинениям в неспособности предотвратить поражение Армении в вооруженном конфликте (Аветикян, 2020).
На фоне обострения двусторонних отношений особое внимание общественности привлекли высказывания премьер-министра Армении, в которых он, в том числе напрямую, возлагал на Москву ответственность за блокаду Лачинского коридора, организованную азербайджанскими эко-активистами. Данная блокада, по оценкам армянской стороны, привела к изоляции более 130 тысяч жителей Нагорного Карабаха, включая наиболее уязвимые категории населения. Это послужило основанием для обвинений в адрес Российской Федерации в несоблюдении условий трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., предусматривающего обеспечение безопасного и бесперебойного передвижения по Лачинскому коридору2.
Дополнительное напряжение в армяно-российских отношениях возникло после событий 2022 г., когда вооруженные силы Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. В ответ премьер-министр Н. Пашинян активировал механизм коллективной безопасности, предусмотренный статьей 4 Устава ОДКБ, запросив в том числе предоставление военной помощи для восстановления территориальной целостности страны3. Однако, вопреки ожиданиям армянской стороны, ОДКБ ограничилась направлением оценочной миссии во главе с генеральным секретарем организации С. Засем, отказавшись от прямого военного вмешательства. Данные события были широко тиражированы в армянских СМИ.
Важно отметить, что охлаждение отношений между официальным Ереваном и Москвой началось еще в 2018 г., когда сразу после прихода к власти Н. Пашиняна были инициированы уголовные преследования в отношении Ю. Хачатурова, занимавшего пост генерального секретаря ОДКБ. Последний обвинялся в причастности к силовому разгону оппозиционных протестов в 2008 г., будучи министром обороны Армении. Подобные действия стали прецедентом, обозначившим новую траекторию армянской внешней политики и начало системного дистанцирования от интеграционных структур под эгидой России4.
Премьер-министр Армении неоднократно прямо или косвенно упрекал Россию в несоблюдении союзнических обязательств. Так, в ходе послевоенной риторики он утверждал, что поставленные Россией ракетные комплексы «Искандер» оказались неэффективными, что также способствовало усилению общественного недоверия к стратегическому партнерству с Москвой и дальнейшей радикализации антироссийских настроений в армянском обществе.
Следует учитывать, что предшествующие армянские власти, в частности президенты Р. Кочарян и С. Саргсян, последовательно демонстрировали лояльность российскому курсу, активно способствуя сохранению республики в орбите политико-экономического влияния Москвы. Однако к концу двух десятилетий правления так называемого «карабахского клана» в армянском обществе нарастало недовольство по поводу системной коррупции, клиентелизма и произвола в органах власти. Одной из наиболее одиозных фигур в этом контексте стал А. Саргсян, брат третьего президента Армении, прозванный в народе «Сашик 50 %» за якобы регулярные требования доли от крупных коммерческих проектов. Преобладающая атмосфера страха, социального неравенства и отсутствия перспектив способствовала распространению протестных настроений и в конечном счете трансформации политической системы. Н. Пашинян, воспользовавшись высоким уровнем поддержки, после революции инициировал серию уголовных дел в отношении Р. Кочаряна, семьи С. Саргсяна и других высокопоставленных чиновников предыдущих администраций. С помощью подконтрольных СМИ он показал обществу, в каких роскошных условиях жили бывшие чиновники и их семьи, в то время как народ бедствовал, а эмиграция продолжалась из-за низких заработных плат и кумовства1. Таким образом Н. Пашинян устранил политических конкурентов, представляющих интересы России в Армении. Однако он осознавал, что невозможно полностью избавиться от российского влияния, пока не будут решены вопросы статуса Нагорного Карабаха, а также членства Армении в ОДКБ и ЕАЭС. В связи с этим после прихода к власти Н. Пашинян заявил, что не намерен продолжать переговоры с той точки, на которой остановились предыдущие власти, и будет вести процесс с новой позиции. Только спустя 7 лет после данного заявления становится очевидным, почему Н. Пашинян принял такое решение. Череда событий, рассмотренных далее, показывает, каким образом премьер-министр последовательно уводит Армению из-под российского влияния.
Совокупность официальных форм сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Армения, сложившаяся в постсоветский период, переживает в последние годы глубокий системный кризис (Broers, 2019). Он носит не только институциональный, но и ценностный характер, отражая разрыв в стратегических ожиданиях, асимметрию интересов и переоценку приоритетов во внешнеполитическом курсе Еревана2. Формальные структуры, которые на протяжении десятилетий обеспечивали устойчивость двустороннего взаимодействия, сегодня оказываются либо недееспособными, либо лишенными прежнего уровня легитимности как в политических кругах, так и в общественном сознании.
Организация Договора о коллективной безопасности, долгое время воспринимаемая в Армении как ключевой инструмент обеспечения национальной безопасности, оказалась неспособной продемонстрировать эффективность в условиях кризисных ситуаций. В частности, невмешательство ОДКБ в ходе вооруженных инцидентов на границе Армении и Азербайджана в 2020 г., а также в период с 2021 по 2023 г. поставило под сомнение как саму логику коллективной безопасности, так и добросовестность союзнических обязательств. Политико-дипломатическая реакция Армении – приостановка участия в учениях, замораживание членских взносов, а впоследствии и заявления о возможном выходе из организации в 2024 г. – свидетельствуют о наступившем институциональном разрыве. В научной литературе все чаще поднимается вопрос о фактической денонсации союзнического соглашения без его юридического оформления, что подчеркивает драматизм происходящих изменений (Atanesyan et al., 2024).
Параллельно деградации военной составляющей сотрудничества наблюдается стагнация экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Несмотря на формальное сохранение режима экономических преференций, Армения демонстрирует явное стремление к диверсификации внешнеэкономических связей, усиливая партнерства с Евросоюзом, Ираном, Индией и странами Ближнего Востока. Экономическая зависимость от российского рынка все чаще рассматривается как фактор уязвимости, ограничивающий суверенное развитие (Донченко, 2025). В общественном и экспертном дискурсе получает распространение мнение о необходимости перехода от интеграционной модели к многовекторной политике открытого регионализма.
Особое место в архитектуре официальных институтов занимает 102-я российская военная база в Гюмри, функционирующая на основании двустороннего соглашения3 и традиционно рассматриваемая как элемент сдерживания внешней угрозы. Однако после событий 2020 г. восприятие базы в армянском обществе претерпело радикальные изменения: усилились сомнения в ее нейтралитете, эффективности и политической мотивации пребывания. В условиях армяно-азербайджанского конфликта и обостренного ощущения недостаточной поддержки со стороны союзника база все чаще упоминается как символ ограниченного суверенитета, а не гарант безопасности. Согласно договору между Российской Федерацией и Армений военная база должна находиться там до 2044 г., однако сейчас идут разговоры о предоставлении участка дороги в районе города Мегри, соединяющего основную часть Азербайджана с Нахичеванью, в аренду на 100 лет Соединенным Штатам Америки. Соответственно, появление западных сил на территории Армении вновь поставит на повестку целесообразность нахождения российской базы в республике.
Дипломатические отношения между Арменией и Россией продолжают существовать, однако они приобрели формальный, рутинный характер, утратив интенсивность и стратегическую направленность. Контакты на высшем уровне значительно сократились как по количественным, так и по содержательным характеристикам. Отдельные эпизоды – включая отказ от участия в заседаниях ЕАЭС и ОДКБ, резонансные заявления армянских официальных лиц о свертывании сотрудничества с РФ – лишь подчеркивают наступившее охлаждение.
Таким образом, анализ состояния официальных институтов российско-армянского сотрудничества демонстрирует, что они оказались неспособны адаптироваться к новой реальности, характеризующейся конфликтогенностью региональной среды, возросшей субъектностью малых государств и усилением конкуренции между глобальными и региональными акторами. Институциональный кризис носит не только функциональный, но и парадигмальный характер, требуя переосмысления как теоретических основ союзничества на постсоветском пространстве, так и практических механизмов его реализации в условиях многополярности и фрагментации международной системы.
В заявлении в июле 2025 г. Н. Пашинян отметил, что видит Армению в Европейском союзе в течение 20 лет1. Хотя этот срок кажется относительно небольшим, при наличии значительных финансовых ресурсов и политической воли возможно изменить структуру импорта и экспорта таким образом, чтобы существенно снизить зависимость от Российской Федерации.
Эти события свидетельствуют о том, что курс Н. Пашиняна на евроинтеграцию продолжается успешно, хотя и не без потерь. Силы, поддерживаемые Российской Федерацией, на протяжении 8 лет не смогли одержать победу над премьер-министром ни с помощью уличных протестов, ни через выборы.
В Армении есть несколько пророссийских политических акторов: Республиканская партия Армении (РПА) президента С. Саргсяна, партия дашнакцутюн, также активно поддерживаются некоторые активисты, имеющие телеграм-каналы, такие как М. Бадалян, А. Абовян. На фоне кризиса официальных институтов сотрудничества особое значение приобретают неформальные каналы, посредством которых Российская Федерация продолжает оказывать влияние на внутреннюю политику Армении. Эти механизмы задействуют широкий спектр акторов – от бывших и действующих политиков до ветеранских объединений, религиозных институтов и неправительственных организаций. Их сила заключается в устойчивости исторически сложившихся связей, сетевой архитектуре и способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешне- и внутриполитического контекста (Burmester, 2024).
Один из важнейших ресурсов российского влияния в Армении – бывшие высокопоставленные чиновники, включая экс-президентов Р. Кочаряна и С. Саргсяна. Первый, имеющий тесные связи с российским бизнесом и политическими кругами (в частности, с окружением В. Путина), открыто позиционирует себя как сторонника стратегического союза с Россией. Его политическая сила – альянс «Айастан» (включающий партии «Армянская революционная федерация – дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения») – выступает с жесткой критикой антироссийского курса действующей власти и последовательно продвигает идею реинтеграции в евразийское пространство. Подобную позицию занимает и РПА под руководством С. Саргсяна, представители которой (в частности, вице-председатель А. Ашотян до ареста в 2023 г.) активно участвуют в пророссий-ском публичном дискурсе.
Среди действующих чиновников и депутатов, демонстрирующих лояльность Москве, следует выделить отдельных членов парламентской фракции «Айастан», а также ряд чиновников среднего звена, тесно связанных с российскими структурами. Например, бывший министр обороны С. Оганян, входящий в состав фракции «Айастан», активно взаимодействует с представителями российских силовых структур и в публичных заявлениях подчеркивает необходимость стратегического партнерства с РФ. Также в числе лоялистов можно упомянуть отдельных депутатов оппозиционной фракции «Честь имею», сформированной на базе близких к С. Саргсяну кругов.
Особую роль играют группы, связанные с ветеранским сообществом и силовыми структурами. Среди них – генералы в отставке и активные участники карабахских войн. Эти группы могут быть использованы в кризисных ситуациях как инструменты давления, источники разведывательной информации, а также организаторы «низовой мобилизации».
Экономическую составляющую неформального влияния формируют бизнес-структуры, чьи интересы связаны с российским рынком. Примером может служить бизнесмен С. Карапетян, владелец Tashir Group – одного из крупнейших инвесторов в Армении, реализующего проекты при активном участии российских банков и корпораций. Структура активно инвестирует в энергетическую и строительную отрасли, обладая рычагами воздействия на политические и экономические решения. Но после ареста С. Карапетяна оппозиционным кругам не удалось переломить ситуацию с помощью уличных протестов и вывести сотни тысяч граждан на улицы в его защиту, что еще раз подчеркивает усталость народа от стихийности и импульсивных событий. Причиной этого являются революция 2018 г. и война 2020 г., морально истощившие людей (Nikoghosyan, Ter-Matevosyan, 2022).
Отдельное место в системе неформального влияния занимает Армянская апостольская церковь (ААЦ), исторически ориентированная на тесное взаимодействие с Русской православной церковью. Католикос всех армян Гарегин II, несмотря на осторожную публичную риторику, традиционно поддерживает доброжелательные отношения с РПЦ, что подтверждается регулярными контактами и совместными заявлениями. Через сеть епархий и приходов, особенно в российских городах с многочисленной армянской диаспорой, ААЦ может выполнять функции культурного посредничества и мягкой легитимации пророссийской повестки в самой Армении (Развитие гражданской идентичности…, 2023).
Наконец, важным каналом влияния остаются неправительственные организации и общественные движения, поддерживаемые или аффилированные с российскими структурами, такие как АНО «Евразия», фонд «Русский мир», действующий в Армении через ряд образовательных и культурных проектов (в частности, центры русского языка при вузах Еревана), организация «Институт стран СНГ», которая регулярно проводит экспертные мероприятия в Армении, а также центр «Евразийское партнерство», взаимодействующий с пророссийскими медиа и общественными платформами. Значимую роль играют и армянские отделения агентства «Россотрудничество», участвующие в культурных, гуманитарных и историко-просветительских инициативах (Mkhoyan, 2016).
Таким образом, Российская Федерация сохраняет в Армении широкую сеть неформальных инструментов влияния, обеспечивающих возможность компенсировать ослабление институциональных связей. Эти каналы действуют одновременно на политическом, военном, экономическом, культурно-идеологическом и гуманитарном уровнях, образуя многослойную архитектуру стратегического присутствия, способную к быстрой мобилизации в условиях внутреннего или внешнего кризиса.