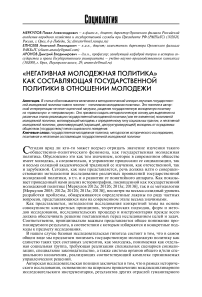"Негативная молодежная политика" как составляющая государственной политики в отношении молодежи
Автор: Меркулов Павел Александрович, Елисеев Анатолий Леонидович, Аронов Дмитрий Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 2, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается включение в методологический аппарат изучения государственной молодежной политики нового понятия - «негативная молодежная политика». Это понятие в авторской интерпретации не несет оценочной нагрузки, разделяя государственную молодежную политику на «правильную» и «неправильную». Оно призвано создать методологическую основу для выделения на различных этапах реализации государственной молодежной политики (или ее элементов) позитивной молодежной политики, мотивирующей молодежь к определенному типу социальных практик, и негативной молодежной политики, демотивирующей (карающей, деструктуризирующей) молодежь от осуждаемых обществом (государством) типов социального поведения.
Государственная молодежная политика, методология исторического исследования, позитивная и негативная составляющая государственной молодежной политики
Короткий адрес: https://sciup.org/170167804
IDR: 170167804
Текст научной статьи "Негативная молодежная политика" как составляющая государственной политики в отношении молодежи
С егодня вряд ли кто-то может всерьез отрицать значение изучения такого общественно-политического феномена, как государственная молодежная политика. Обусловлено это как тем значением, которое в современном обществе имеет молодежь, а следовательно, и управление процессами ее социализации, так и весьма солидной академической традицией ее изучения, как отечественной, так и зарубежной. Сегодня, как нам представляется, речь должна идти о совершенствовании методологии исследования различных проявлений государственной молодежной политики, в т.ч. и о развитии ее понятийного аппарата. Как показывает проведенный нами анализ историографии, посвященной как государственной молодежной политике [Меркулов 2012а; 2012б; 2013а; 2013б], так и ее методологии [Меркулов 2005; 2012а; 2012б; 2013а; 2013б], несмотря на весьма солидный уровень разработки проблемы, обнаруживаются определенные лакуны по ряду частных вопросов, представляющихся нам на современном этапе весьма значимыми.
Как представляется, методология исследования конкретной темы на основе совокупности конкретных принципов, теоретических подходов, форм и методов исследования, исследовательских процедур и инструментария прежде всего должна обеспечивать решение поставленных перед исследованием целей и задач. Соответственно, принципиально важным представляется общее понимание прогнозируемого результата, в соответствии с которым избираются и конкретные подходы к предмету исследования.
В нашем случае базовая исследовательская гипотеза состоит в том, что в самом общем виде мы предлагаем понимать государственную молодежную политику как единство таких трех составных элементов, как молодежь, понимаемая как отдельная социальная группа, требующая реализации специальных сценариев социализации, специальное законодательство, а также система органов общего и/или специального назначения, реализующих соответствующий комплекс принимаемых управленческих решений.
Авторская исследовательская позиция заключается в том, что в рамках исторического исследования, основанного на широком привлечении междисциплинарного исследовательского инструментария, результатов других отраслей гуманитарного знания, в базовое для настоящей работы определение государственной молодежной политики следует включить указание как на ее целевую социализацию, так и на те специфические характеристики, которые связаны с необходимостью объединить в нем присущие этому виду государственной политики черты разных исторических эпох.
В данном контексте предлагается авторское определение молодежи как отдельной социальной группы, чьи базовые половозрастные и коррелирующие с ними социальные характеристики находят отражение в нормативно-правовой базе и являются объектом целенаправленного управленческого воздействия со стороны органов общей и/или специальной компетенции. В определении умышленно опущена такая характеристика, как возрастные характеристики молодежи, т.к. это одна из наиболее неустойчивых и подверженных действию совокупности как объективных социальных, так и субъективных политических факторов. Отсутствует в данном определении и оценочная составляющая государственной молодежной политики. Это сделано по двум основаниям. Применительно к специфике методологии историко-правового исследования речь должна идти прежде всего о том, что любая ретроспекция оценочных определений связана с экстраполяцией современных ценностей на иные эпохи, что уже подразумевает неизбежную субъективность. Подобная ошибка с удивительным постоянством встречается не только в трудах публицистов, но и в трудах представителей ряда гуманитарных наук, для которых исторический процесс зачастую подменяется отменой и принятием новых актов, а также изменением названий и структуры органов управления. При таком подходе, опираясь на ценности Всеобщей декларации прав человека, нетрудно сделать вывод о том, что все предшествующие исторические эпохи были в своем роде «темными веками», некоей предтечей современного, естественно, высшего этапа развития человечества. Подобная позиция в специальной критике не нуждается, но научно взвешенная оценка степени соответствия уровня развития государственной молодежной политики (или ее элементов) системе ценностей соответствующей эпохи еще требует своего специального исследования.
Методология исследования молодежной политики, прежде всего, как нам представляется, должна быть основана на максимально широком понимании такого понятия, как политика [Ильинский 2001; Луков 2012; Криворученко 1986, 2012; Родионов 1998]. При этом хотелось бы сделать одно принципиально важное замечание. Подавляющее большинство авторов, писавших и пишущих по проблематике молодежной политики и предлагающих свой вариант определения молодежной политики, априорно исходят из того, что молодежная политика – это обязательно позитивная деятельность государства, ориентированная на достижение целей, оптимизирующих процесс социализации молодого поколения, что, соответственно, ставит ее на службу обществу для последующего достижения значимых для всего социума целей [Педан 1984; Мацуев 1992; Таранцов 1998]. Подобный подход в какой-то мере может быть оправдан применительно к специалистам в области политологии, социологии, юриспруденции, экономики, чьи работы ориентированы на сегодняшний день и призваны создать идеальный образ будущей государственной молодежной политики. Соответственно, сегодня такой образ позитивной молодежной политики и является одним из средств построения демократической государственности и гражданского общества.
Еще одним основанием отсутствия в определении аксиологической составляющей выступает сформулированный тезис об имманентном присутствии в государственной молодежной политике любой исторической эпохи как позитивной, так и негативной составляющей. При этом мы не даем положительных и отрицательных оценок той или иной составляющей, а лишь констатируем наличие нормативной базы и деятельности уполномоченных органов, поощряющих или запрещающих (дестимулирующих) тот или иной тип социализации молодежи. Вместе с тем полагаем необходимым отметить, что указание на наличие негативной составляющей государственной молодежной политики является методологически необходимым. Это связано, прежде всего, с тем, что в отечественной исторической, историкоправовой науке, а также близких к ним областям гуманитарного знания устоялась точка зрения, согласно которой к молодежной политике не было принято относить то, что мы понимаем под негативной молодежной политикой, т.е. комплекс нормативно-правовых актов и деятельность органов госуправления, запрещающих (демотивирующих) определенный квалифицируемый государством как негативный для социума тип социализации молодежи.
В массиве существующей исторической, историко-правовой литературы данная совокупность и нормативно правовых актов, и действий уполномоченных органов, направленных на выполнение конкретных мероприятий, реализующих государственную молодежную политику, как правило, рассматривается в разделах, посвященных репрессиям против молодежи, ее организаций, отдельных представителей и т.д. [Цветлюк 2001; Соколов 2002]. Несомненно, что по своей форме негативная молодежная политика так или иначе практически всегда обнаруживала тенденцию к трансформации в формы карательной политики, но ей, как мы покажем ниже, никоим образом не исчерпывалась.
Соответственно, сам по себе термин «негативная молодежная политика» не несет и не должен нести осуждающую морально-этическую нагрузку. Он означает практическую деятельность государства, направленную на демотивирование представителей молодежи от общественно опасного поведения, а в своей последней стадии – на пресечение общественно опасных деяний. Данный вид государственной деятельности государства может переходить в карательную составляющую правоохранительной функции государства, переставая быть исключительно частью собственно молодежной политики. Однако в этом случае речь идет о том, что карательная машина государства (система правоохранительных органов) начинает действовать не в целях собственно государственной молодежной политики, демотивируя определенным, присущим их деятельности образом молодежь от социализации в нежелательном (по мнению государства) направлении. Эта система при таком развитии событий начинает реализовывать вариант государственной политики в целях устрашения населения страны или борьбы с оппозицией (реальной или мнимой – не столь важно).
Соотношение негативной и карательной политики государства можно было бы описать как сферы частично пересекающиеся, но никогда полностью не совпадающие и не поглощающие друг друга. Иначе говоря, негативная молодежная политика государства может реализовываться в формах и методах политики карательной, но никогда ими не исчерпывается. Соответственно, представляется необходимым определить иные, не столь явные, в отличие от карательных, составляющие негативной молодежной политики. Напомним, что, исходя из сформулированных выше определений государственной молодежной политики и ее негативной составляющей, молодежи и ее социализации как процесса направляемого/управляемого социумом, они должны быть элементами социализации, находящимися в связи с государственной политикой, и отражаться в текущем законодательстве, структуре (полномочиях) органов общего/отраслевого управления. Конкретно-историческое исследование, проведенное одним из авторов настоящей статьи, достаточно наглядно показало, что начиная еще с XIX в. элементы негативной государственной молодежной политики (сословной молодежной политики) встречаются, прежде всего, в системе образования (как общего, высшего так и военного). Там существует четкая политика, связанная с определением содержания образования, деятельности органов студенческого самоуправления, которая вполне укладывается в понятие демотивирующих мер. Сюда же, уже начиная с едва ли не более ранних времен российской истории, можно отнести формирование временных специализированных органов по рассмотрению конфликтов в сфере, подведомственной министерству просвещения. Менее явными элементами негативной, иначе – демотивирующей политики выступают ее проявления в рабочем законодательстве, связанные с определением условий труда несовершеннолетних. Традиционно устоялся взгляд на рабочее законодательство России как едва ли не самое отсталое в Европе и априорный отказ ему в праве быть прогрессивным. Современные исследования показывают, что ситуация здесь была иной. Что же до интересующей нас темы, то здесь мы видим очень интересный случай, когда демотивирующая функция нега- тивной государственной политики направлена на достижение целей позитивной молодежной политики. Прежде всего, речь идет о нормах, ограничивающих продолжительность рабочего дня, рассматриваемых в совокупности с нормой, обязывающей детей получать образование. В данном случае мы не говорим о специфике отечественной правоприменительной практики, но обязанность учиться в условиях ориентации детей на трудовую деятельность может рассматриваться как очень специфическое проявление негативной составляющей.
Поэтому принципиально важным для методологии исследования является максимально широкое понимание политики вообще и молодежной в частности, что позволяет максимально полно реализовать такой традиционный метод исторического исследования, как принцип полноты и всесторонности изучения объекта и предмета исследования.
В самые различные периоды российской истории неотъемлемым элементом молодежной политики государства была негативная составляющая. Конечно же, наиболее явно данный вид государственной политики проявлялся в советский период истории. Он в самых разных формах переставлял собой подавление, запрещение, а порою и физическое уничтожение тех молодежных течений и организаций, а также их носителей, чьи взгляды и/или деятельность не соответствовали государственной (а применительно к СССР – партийно-государственной) идеологии. Соответственно, негативная составляющая государственной молодежной политики также должна выступать неотъемлемым элементом научного анализа. Попутно отметим, что и для современности данный аспект исследования вполне актуален. Целый ряд сугубо молодежных движений, проявлений субкультуры носят откровенно деструктивный характер по отношению к защищаемым обществом целям, и попытки отказа от борьбы с ними под прикрытием псевдодемократической риторики о свободе слова, мнений и выражений и бесконечных ссылок на некие абстрактные «образцы гражданского общества» за рубежом несут угрозу самому существованию нашего общества.
Таким образом, в настоящей статье предпринята попытка обосновать тезис о необходимости включить в понятие государственной молодежной политики не только ее позитивную составляющую, ориентированную на поощрение и формирование признаваемого обществом типа социализации, но и ее негативную составляющую, реализующую демотивирующую (как частное проявление – карательную) функцию в отношении неприемлемых для социума в лице государства форм социализации.
Список литературы "Негативная молодежная политика" как составляющая государственной политики в отношении молодежи
- Ильинский И.М. 2001. Молодежь и молодежная политика. М.: Голос. 696 с
- Криворученко В.К. 1986. Комсомол в советском обществе. М.: Знание. 170 c
- Луков В.А. 2012. Теории молодежи: междисциплинарный анализ. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация». 528 с
- Мацуев А.Н. 1992. Опыт и уроки реализации молодежной политики в СССР: дис.... к.и.н. М.: Институт молодежи. 276 с
- Меркулов П.А. 2005. К вопросу о содержании дефиниции «государственная молодежная политика». -Государство и общество. Проблемы и перспективы взаимодействия: сборник научных статей. Орел: ОрелГТУ. С. 48-53
- Меркулов П.А. 2012a. Постсоветский этап развития историографии государственной молодежной политики -обретение нового смысла. -Сервис в России и за рубежом. № 11(38)
- Меркулов П.А. 2013a. Государственная молодежная политика России -исторические этапы формирования. СПб.: ИД «Алеф-Пресс». 515 с
- Меркулов П.А. 2012b. Методология изучения государственной молодежной политики -приглашение к дискуссии. -Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. № 4(23). С. 79-82
- Меркулов П.А. 2013а. О новых концептуальных подходах к изучению исторического опыта формирования государственной молодежной политики. -Государственная власть и местное самоуправление. № 1. С. 3-4
- Педан С.А. 1984. Партийное руководство комсомолом в период построения социализма: дис. … д.и.н. Л. 436 с
- Родионов В.А. 1998. Теория и политика советского государства и общества в отношении молодого поколения и юношеского движения. 1917-1941 гг. Теория и история политической науки. М. 325 с
- Соколов В.И. 2002. История молодежного движения России -СССРссередины XIX века по XXI век. Рязань: Узорочье. 626 с
- Таранцов М.А. 1998. Исторический опыт реализации молодежной политики государства и общества в условиях смены общественно-политической системы и социально-экономических реформ (конец 1980-х -1990-е годы): дис.... д.и.н. М. 472 с
- Цветлюк Л.С. 2001. Политический контроль в молодежной среде. 1920-1930-е годы. М.: Социум. 122 с