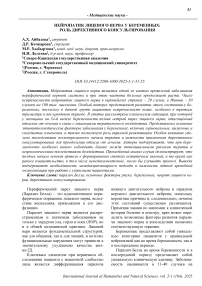Нейропатия лицевого нерва у беременных: роль директивного консультирования
Автор: Айбазова А.Х., Кочкарова Д.Р., Хыбыртова М.Р., Долгова И.Н.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Медицинские науки
Статья в выпуске: 5-1 (104), 2025 года.
Бесплатный доступ
Нейропатия лицевого нерва является одной из частых проявлений заболевания периферической нервной системы и при этом частота больных продолжает расти. Число встречаемости нейропатии лицевого нерва в европейских странах – 20 случае, в Японии – 30 случаев на 100 тыс. населения. Особый интерес представляет развитие этого состояния у беременных, поскольку в данной группе пациентов встречаемость выше, особенно в третьем триместре и послеродовом периоде. В статье рассмотрена клиническая ситуация, при которой у женщины на 34-й неделе беременности возник острый парез лицевого нерва, отягощённый отказом от лечения в связи с опасениями тератогенного воздействия. Представлены основные этиопатогенетические факторы заболевания у беременных, включая гормональные, иммунные и сосудистые изменения, а также возможную роль вирусной реактивации. Особое внимание уделено последствиям несвоевременного начала терапии и важности применения директивного консультирования для преодоления отказа от лечения. Авторы подчёркивают, что при беременности особенно важно соблюдать баланс между потенциальными рисками терапии и неврологическими последствиями бездействия. Проведённый анализ случая демонстрирует, что позднее начало лечения привело к формированию стойких остаточных явлений, в то время как раннее вмешательство, в том числе немедикаментозное, могло бы улучшить прогноз. Выводы подчёркивают необходимость междисциплинарного подхода и важность чёткой врачебной коммуникации при работе с уязвимыми пациентами.
Паралич Белла, основные факторы риска, беременные, неврит лицевого нерва, директивное консультирование
Короткий адрес: https://sciup.org/170209274
IDR: 170209274 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-5-1-51-55
Текст научной статьи Нейропатия лицевого нерва у беременных: роль директивного консультирования
Периферический парез лицевого нерва (Паралич Белла) - это идиопатическое периферическое поражение лицевого нерва, вследствие воспаления, приводящим к его дисфункции.
Паралич лицевого нерва является распространенным и значимым заболеванием не только у хирургов уха, горла и носа (ЛОР), но и в общей медицинской практике. Лицевой нерв является фундаментальной структурой, как для общения, так и для эмоций, и поэтому функциональные нарушения могут привести к значительному ухудшению качества жизни [2].
Ключевым элементом при первичном обследовании пациента с мышечной слабостью лица является дифференциация паралича нижнего двигательного нейрона и паралича верхнего двигательного нейрона, поскольку вероятные причины и, следовательно, лечение этих состояний существенно различаются. Применяя знания по анатомии к клинической истории болезни и осмотру, врач может определить возможные факторы развития паралича лицевого нерва и впоследствии назначить соответствующую терапию.
Беременные представляют собой уникальную категорию пациентов с краниальной нейропатией как во время беременности, так и в послеродовом периоде.
Паралич Белла во время беременности и в послеродовой период представляет собой уникальную клиническую единицу. Заболеваемость оценивается в 11-40 случаев на
100 000. Исследования показывают, что частота паралича Белла во время беременности составляет 45,1 на 100 000 родов в год, по сравнению с заболеваемостью вне беременности в 17,4 случая для той же возрастной группы. С преимуществом частоты встречаемости в третьем триместре и в послеродовом периоде.
У беременных парез лицевого нерва чаще связан с переохлаждение, задержкой жидкости - компрессия нерва в лицевом канале височной кости; иммунные изменения, вирусными реактивациями (чаще Herpes simplex), изменение гормонального статуса. Гипотермия может выступить триггером, особенно в условиях сниженного иммунитета. Анемия губ и языка может быть первым субъективным проявлением нейропатии. Существуют теории относительно того, почему во время беременности наблюдается повышенная заболеваемость параличом Белла. Считается, что некоторые физические изменения вызывают или способствуют началу заболевания, в том числе: нарушения свертываемости крови, повышенное артериальное давление, эклампсия (начало судорог у женщины с преэклампсией), увеличение общего содержания воды в организме. При задержке жидкости может также возникнуть периневральный отек (накопление жидкости вокруг нерва) изменения уровня эстрогена и прогестерона. В течение третьего триместра или в первую неделю после родов люди, как полагают, подвергаются особому риску заражения вирусом простого герпеса (ВПГ). Во втором и третьем триместрах беременности рецидивы вируса простого герпеса возникают чаще, чем в первом. Это может быть обусловлено снижением активности иммунной системы на фоне повышенного уровня кортизола.
Рассматривая этиологический фактор развития паралича, следует отметить, что в 70% случаев это идиопатический/паралич Белла. Частота случаев заболевания составляет от 10 до 40 на 100 000 [3]. Это диагноз исключения. Выделяют вирусный продромальный период, и у 10% пациентов он может повторяться; однако паралич лицевого нерва, как правило, проявляется в полной мере в течение первых 24-48 часов [4]. Повреждение нерва из-за сдавливания в костном канале способен привести к отёку и вторичному давлению, что влечёт за собой ишемию и снижение функции. Выздоровление может занять до 1 года, и у 13% пациентов оно не завершается.
Травма встречается в 10-23% случаев. Переломы каменистой части височной кости и раны на лице, пересекающие ветви лицевого нерва, могут вызвать паралич лицевого нерва. Для травмы височной кости требуется большое усилие, и клиницист должен обращать внимание на такие признаки, как гемотимпа-нум, признаки баттла и нистагм. Повреждения височной кости обычно происходят односторонне и классифицируются в соответствии с плоскостью перелома вдоль каменистого отростка, т.е. продольный или поперечный [5]. Кроме того, ятрогенные повреждения во время отологических, паротидных и невринома-тозных операций могут привести к травматическому воздействию на лицевой нерв, его повреждению и растяжению. Клиническая картина имеет решающее значение для выявления вероятной причины.
Вирусные инфекции (от 4,5 до 7%) – инфекция опоясывающего лишая, приводящая к параличу лицевого нерва из-за ганглионита коленчатого узла (также известного как синдром Рамсея Ханта (СРХ). Вирус остаётся в латентном состоянии в коленчатом узле и может вызывать фазу продрома с отоалгией и везикулярными высыпаниями в наружном слуховом проходе, а также на мягком нёбе (зона иннервации IX пары). Кроме того, у 40% пациентов с РГС развивается головокружение из-за поражения VIII черепного нерва (преддверно-улиткового нерва) [6]. Прогноз неблагоприятный, чем при параличе Белла: в течение 12 месяцев выздоравливает только 21% пациентов.
Новообразования, приводящие к параличу лицевого нерва, включают злокачественные опухоли околоушной железы, невриномы лицевого и слухового нервов, менингиому и арахноидальные кисты. Все эти заболевания проявляются в разной степени и с разными симптомами паралича лицевого нерва в зависимости от расположения опухоли и встречаются в 2,2-5% случаев.
Острый средний отит бактериальной этиологии может приводить к расхождению швов в области лицевого канала, что, в свою очередь, вызывает паралич лицевого нерва. Кроме того, этиопатогенетическими фактора- ми паралича лицевого нерва могут выступать холестеатома и некротизирующий наружный отит. К редким этиологическим причинам относится болезнь Лайма, клиническая картина которой может включать утомляемость, цефалгию, артралгии и мигрирующую эритему, возникающую, как правило, в течение 1-2 недель после присасывания иксодового клеща. Кардиальные осложнения (в частности, миоперикардит) и лайм-артрит также могут входить в состав данного инфекционного синдрома.
Клинический случай
За консультацией обратилась молодая женщина 30 лет, с жалобами на асимметрию лица, невозможность сомкнуть левый глаз, ощущение стягивания мышц в левой половине лица, онемение левой половины лица, сухость в левом глазу.
Анамнез заболевания: внезапное появление (в течение нескольких часов) симптомов онемения нижней губы и языка, симптомы достигли пика в течение 2 дней, постепенное развитие асимметрии лица при разговоре, невозможность морщинить лоб, показать зубы на одной стороне, трудности с поднятием бровей, морганием и закрытием глаз, слезящиеся глаза, трудности с улыбкой и надуванием губ, изменение речи и внешнего вида лица появились 8 месяцев назад. Ситуация усложнялась тем, что на период манифестации заболевания пациентка была на 34 неделе беременности. Данные симптомы возникли на фоне переохлаждения, спала с открытым окном (на фоне чувства «нехватки» воздуха).
Пациентке был установлен диагноз -нейропатия лицевого нерва слева. От рекомендаций и прохождения лечения на тот момент пациентка отказалась, апеллирую это возможным тератогенным действием лекарственных средств на развитие плода.
Общее состояние: удовлетворительное, сопутствующих хронических заболеваний нет.
В неврологическом статусе: левосторонний прозопопарез (асимметрия лицевой мимики слева - глазная щель шире, симптом Белла, невозможность зажмурить и поднять бровь, угол рта опущен, симптом «паруса» слева).
Пациентке было выполнено МРТ головного мозга (без очагового дефицита). Был установлен диагноз: нейропатия лицевого нерва, период формирования стойких остаточных явлений.
Когда врач сталкивается с ситуацией, в которой пациент отказывается от медицинской рекомендации, полезно отличать использование директивного консультирования от усилий, направленных на принуждение.
Директивное консультирование часто уместно и, как правило, приветствуется во время медицинской консультации, потому что медицинские рекомендации, когда они не являются принудительными, не нарушают, а скорее усиливают требования информированного согласия [7]. Однако, если пациент отказывается от рекомендованного курса лечения, жизненно важно, чтобы врачи понимали, когда они переходят черту, отделяющую директивное консультирование от принуждения. Благие намерения могут привести к неподобающему поведению. Применение принуждения не только этически недопустимо, но и нецелесообразно с медицинской точки зрения из-за реалий прогностической неопределенности и ограниченности медицинских знаний.
Из-за потенциальной невозможности с уверенностью определить, когда ситуация причинит вред плоду, а также потенциальной неспособности гарантировать, что беременная женщина не пострадает от самого медицинского вмешательства, следует представить баланс потенциальных исходов, который касается беременной женщины и ее плода. Кроме того, следует признать следующее: ограниченность понимания пациенткой своей клинической ситуации; гормональные изменения, культурные, социальные и ценностные различия, перепады настроения. При работе над достижением решения проблемы с пациентом, который отказался от рекомендованного по медицинским показаниям лечения, следует учитывать следующие факторы: надежность и обоснованность доказательной базы, тяжесть предполагаемого исхода, степень бремени или риска, возложенного на пациента, степень, в которой беременная женщина понимает потенциальную серьезность ситуации или связанный с ней риск и степень срочности, которую представляет ее клинический случай. В конечном счете, однако, пациентка должна быть уверена в том, что ее пожелания будут учтены в случае отказа от рекомендаций по лечению [8].
Заключение
Клинический случай паралича Белла у беременной подчёркивает важность своевременного начала терапии для достижения максимально полного восстановления мимических функций. У данной пациентки неврологическая симптоматика развилась остро и соответствовала классической картине идиопатического лицевого паралича. Учитывая отсутствие сопутствующих соматических заболеваний и выраженную типичность клинического течения, диагноз был установлен на основании клинико-неврологического осмотра без необходимости в дополнительных инструментальных исследованиях.
Отказ от терапии в остром периоде, обусловленный беременностью, значительно ухудшил прогноз. Лечение было начато лишь спустя 8 месяцев после дебюта заболевания, когда уже имело место стойкое нарушение иннервации мышц лица. Несмотря на проведение комплексной восстановительной терапии (глюкокортикостероиды, витамины группы В, физиотерапия, иглорефлексотерапия), полного восстановления функций достичь не удалось. У пациентки сохраняются остаточные явления в виде асимметрии лица и син-кинезий, что указывает на неполную регенерацию поражённого лицевого нерва.
Таким образом, данный случай подчёркивает необходимость раннего начала патогенетической терапии паралича Белла - в идеале, в течение первых 72 часов от появления симптомов. Задержка в лечении может приводить к необратимым изменениям со стороны мимической мускулатуры и стойкому косметическому дефекту, особенно у молодых пациентов с высоким запросом на качество жизни. У беременных женщин лечение требует особого подхода и междисциплинарного взаимодействия, однако отказ от терапии в острый период не всегда оправдан, особенно в III триместре, когда потенциальные риски от применения глюкокортикостероидов минимальны по сравнению с возможными последствиями неврологического дефицита.
Клинический случай также подчёркивает важность правильно выстроенной врачебной коммуникации. Врач, сталкиваясь с отказом пациента от терапии - особенно в такой уязвимой группе, как беременные женщины, -обязан не только информировать, но и направлять пациента, используя директивное консультирование. В отличие от давления или принуждения, директивное консультирование даёт пациенту чёткие ориентиры в ситуации высокой неопределённости.
В описанном случае отказ от лечения в остром периоде был мотивирован страхами перед потенциальным тератогенным воздействием терапии. Однако этот отказ, по всей вероятности, возник на фоне недостаточной информированности о рисках самой патологии и о доказательной безопасности некоторых методов лечения в III триместре беременности.
Если пациент по объективным или субъективным причинам отказывается от медикаментозной терапии, врач обязан предложить альтернативные и максимально безопасные для беременной женщины подходы. Возможные варианты, которые следовало бы озвучить немедикаментозные методы, допустимые в III триместре:
-
- лечебная гимнастика для мимических мышц (ФК);
-
- локальное тепло (без риска перегрева плода);
-
- иглорефлексотерапия;
-
- тейпирование мышц лица;
-
- терапевтический массаж (в т.ч. лимфодренажный).
Следовательно, данный случай подчёркивает не только клиническую, но и этикокоммуникативную значимость ситуации. Отказ от лечения в критический момент мог быть преодолён путём применения директивного консультирования, предоставления пациентке информации в доступной форме, обсуждения альтернативных терапевтических опций, а также демонстрации уважения к её ценностям и беспокойствам. Клинически оправданный баланс между материнскими и фетальными рисками должен быть донесён своевременно и профессионально, особенно в условиях ограниченного терапевтического окна.