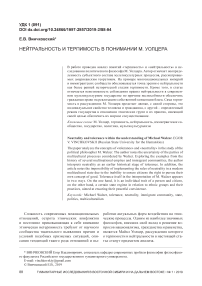Нейтральность и терпимость в понимании М. Уолцера
Автор: Винчковский Егор Владимирович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 2 (48), 2019 года.
Бесплатный доступ
В работе проведен анализ понятий «терпимость» и «нейтральность» в исследовании политического философа М. Уолцера. Автор отмечает неопределенность субъектного состава мультикультурных процессов, рассматриваемых американским теоретиком. На примере многонациональных империй и иммигрантских сообществ обосновывается точка зрения о нейтральности как более ранней исторической стадии терпимости. Кроме того, в статье отмечается невозможность соблюдения правил нейтральности в современном мультикультурном государстве по причине неспособности обеспечить гражданам право на реализацию собственной концепции блага. Сама терпимость в рассуждениях М. Уолцера предстает двояко, с одной стороны, это индивидуальное свойство человека и гражданина, с другой - определенный режим государства в отношении этнических групп и их практик, имеющий своей целью обеспечить их мирное сосуществование.
М.уолцер, терпимость, нейтральность, иммигрантское сообщество, государство, политика, мультикультурализм
Короткий адрес: https://sciup.org/170175902
IDR: 170175902 | УДК: 1 | DOI: 10.24866/1997-2857/2019-2/88-94
Текст научной статьи Нейтральность и терпимость в понимании М. Уолцера
Сложность современных межнациональных отношений, острота этнических конфликтов и постоянно приковывающая к себе внимание этническая нетерпимость требуют от научного сообщества тщательного выявления причин и условий подобных кризисных ситуаций, описания тенденций такого рода отношений и вы- работки актуальных форм воздействия на этнические процессы. Одним из наиболее значимых философов, внесших свой вклад в решение вопросов национализма, гражданства и равенства, является Майкл Уолцер, рассуждения которого о терпимости и нейтральности в настоящей статье станут предметом анализа.
В начале статьи мы должны указать, что нейтральность и терпимость в публикации будут рассматриваться исключительно как формы государственной политики в отношении этнических групп. Эмоциально окрашенные действия индивидов или их предрасположенности относительно чужой национальности, культуры и т. д. не входят в предмет дискуссии непосредственно, а только через возможное влияние государственных решений на отношения групп друг с другом или индивидов из разных групп между собой как представителей рассматриваемого политического сообщества.
М. Уолцер не прибегает в своем труде «О терпимости» к «жесткой» терминологии (к конструкциям по типу «терпимость – это…»), автор склонен к описательному способу раскрытия понятий. Наиболее близкое к раскрытию смысла понятия терпимость суждение дается следующим образом: «Предметом моего исследования является терпимость или, лучше сказать, то, что делает терпимость возможной, – мирное сосуществование групп людей с различной историей, культурой и идентичностью» [6, с. 16]. Во-первых, как видно из вышесказанного, М. Уолцер указывает на условие терпимости («то, что делает ее возможной») – мирное сосуществование групп, в то же время подобное сосуществование, по нашему мнению, скорее, отражает цель терпимости, только при наличии терпимости в сообществе группы могут мирно сосуществовать. С другой стороны, вряд ли можно с уверенностью отследить прямую причинно-следственную связь – нетерпимость членов общества порождает этнические конфликты или наличие конфликтов (по целому ряду допустимых причин) порождает этническую нетерпимость.
Во-вторых, М. Уолцер не совсем ясно определяет субъектный состав толерантных отношений. Исходя из контекста дальнейших рассуждений автора о формах толерантных режимов и практических вопросах терпимости, американский философ прибегает к ссылкам на государство и международное сообщество, а в предмете исследования он указывает на группы, мирное сосуществование которых должна обеспечить терпимость. Подобная подмена одного субъекта другим в ходе рассуждений, скорее, приводит к непониманию роли каждого из участников отношений терпимости, их воздействия на этнические процессы, и, как следствие, к путанице смыслов самого понятия терпимость.
Раскрытие М. Уолцером терпимости также заключено в его описании установок толерантного отношения: «Что же следует понимать под толерантным отношением к указанным группам? Понятая как некая установка или умонастроение, толерантность включает в себя ряд возможностей» [6, с. 25]. Далее М. Уолцер выделяет следующие установки: отстраненность, безразличие, стоицизм, любопытство, восторженность [6, с. 25–26].
Американский философ не дает каких-либо различий в употреблении слов «терпимость» или «толерантность», поэтому мы также будем использовать их как синонимы. Понимание М. Уолцером толерантности (толерантного отношения) как установки или умонастроения опять же вызывает вопросы к определению субъектного состава данных отношений. Умонастроение очевидно имеет индивидуальный характер, установка же как алгоритм действий более типична для коллективных субъектов, таких как государство и этнические группы, хотя для последних и в меньшей степени. Эмоциональная окрашенность установок толерантного отношения наводит на мысли, что М. Уолцер описывает скорее индивидуальные склонности конкретного человека, чем алгоритм принятия политических решений или модель этнической политики. Вряд ли мы можем с уверенностью заявлять, что отстраненность или безразличие могут быть «использованы» государством как установка нейтральной политики, так как любые конфликты между этническими группами, в том числе на бытовом уровне, требуют ведения определенной национальной политики, механизмов разрешения культурных разногласий.
Отстраненность и безразличие не являются нейтральностью и в уолцеровском смысле, сам автор допускает ссылки на нейтральность при выделении толерантных режимов различных государств. Так М. Уолцер описывает этническую позицию иммигрантских политических сообществ (автор использует пример Соединенных Штатов): «Государство оставляет за собой исключительное право рассматривать всех граждан как индивидов, а не как членов тех или иных групп. Поэтому объектами терпимости являются, строго говоря, индивидуальные поступки и решения… По отношению ко всем этим процессам государство сохраняет отстраненную позицию, стремясь находиться “над схваткой”. Оно не заинтересовано в том, чтобы тем или иным образом влиять на ход происходящих преобразований» [6, с. 70–71]. На дан- ном примере М. Уолцер описывает нейтральную позицию в отношении этнических групп и толерантное отношение государства к индивидуальным поступкам, однако автор не комментирует оценку действий индивидов, когда они обусловлены принадлежностью к группе.
Если государство действительно (при оценке конкретного индивидуального действия) обращается лишь к гражданину (без учета принадлежности к группе, культуре и участия в множестве социокультурных процессов), то такое государство лишь «закрывает глаза» на проблему, чем утверждает, что подобный результат являлся следствием его целенаправленной и сознательной политики. Отстранение от проблем и нежелание реформ всегда может быть прикрыто стремлением предоставить «покой» этническим группам и «равенство» их представителям. Отказ государства от фиксации различий между членами этнических групп может означать отказ от признания социальных фактов наличия таких различий и, как следствие, своими последствиями означать отказ от социальной поддержки различных образов жизни. Государство, безусловно, интуитивно осознает различия между членами этнических групп, но отсутствие формального закрепления предполагает отказ от институциональных механизмов решения этнических разногласий в вопросах миграции, традиционного природопользования, свободы совести, образования, трудовых, брачных отношений и др. А. Янг, обсуждая проблему демократического равенства и усиления привилегий отдельных групп при таком недифференцированном режиме, замечает, что решение парадокса демократии заключается отчасти «в проведении институциональных мер по признанию и представительству угнетенных групп» [12]. Если такой отказ принимается государством, то нейтральная позиция иммигрантских сообществ в опровержение доводов М. Уолцера не может быть толерантным режимом, так как не способствует, по выражению самого автора, мирному сосуществованию групп в сообществе.
Второй вариант толкования нейтральности государства М. Уолцера – это вариант, когда государство формально-юридически не учитывает притязания групп, но институционально их фиксирует при разрешении спорных ситуаций с участием членов данной группы. Подобные отношения продемонстрированы на примере ряда судебных дел в статье Д. Коулмен «Индивидуализация справедливости через мультикультура- лизм: дилемма либералов». В ней упоминается случай, когда гражданка США японского происхождения утопила двух своих детей и пыталась покончить жизнь самоубийством, следуя обычаю поведения в ситуации неверности мужа (приговорена лишь к 1 году лишения свободы), и дело гражданина США китайского происхождения, избившего насмерть свою жену из-за ее неверности, но полностью оправданного в связи с тем, что его действия соответствовали китайским традициям смывать позор [11]. Подобные прецеденты рассмотрены и С. Бенхабиб: например, дело в штате Орегон о признании отсутствия правонарушения в действиях двух членов Аборигенной американской церкви, употреблявших пейот в религиозных целях [2, с. 185].
Все указанные споры имели место в Соединенных Штатах и, учитывая прецедентность американского права, нельзя сказать, что они никоим образом не оказали влияния на мультикультурализм в США, на роль и место религиозных и этнических групп в сообществе и не демонстрируют в настоящее время определенную модель национальной политики. Политика нейтральности, как она демонстрируется американским автором на примере США, предполагает диалог государства с гражданином как представителем нации, а не этноса, и воплощает в себе юридические подходы европейской и американской традиций права в разрешении проблем равенства и справедливости. Нейтральность допускает, что разрешение вопросов, касающихся этнического фактора, может быть осуществляться путем отсылки к основным правам и свободам человека и гражданина без учета ценностей и социальных норм группы. Такое предположение дает «однозначные» варианты решений споров по типу: бракоразводные споры с внутренними ограничениями группы в отношении женщин решаются ссылкой на право каждого выбирать себе партнера и свободно заключать брак; трудовые споры о приеме на работу представителей этнических групп, об особых условиях труда, включая расписание и время отдыха, решаются ссылкой на право каждого на труд и на право заключения трудового договора с обязательством его исполнения и т. д.
Практика показывает, что подобные ответы, как правило, строятся на простом юридическом закреплении отсутствия любых форм дискриминаций и декларировании широкого круга индивидуальных прав. Социальная дей- ствительность, в свою очередь, показывает затруднительность (если не невозможность) исполнения подобных правовых решений, даже вводимых под лозунгами «построения единой нации». Нейтральные ссылки исключительно на права социологически наивны, и политических и юридических принципов обеспечения единства сообщества в государстве явно недостаточно.
Мы также должны заметить, что исключительно индивидуально-правовой («нейтральный») контекст разрешения мультикультурных споров разрушает характерные принципы самого либерального государства – участие гражданина в политической деятельности, формировании общего блага и собственного благополучия. Либеральное право на автономию заключается и в том, что человек имеет право на собственную концепцию блага, и роль государства, по мнению Дж. Раца, состоит в равном обеспечении этого права и выражении своей собственной концепции [13, с. 132]. Кроме того, как замечает Дж. Грей, на практике нейтральность всегда сталкивается с выбором конкретных способов и образов жизни, и определение подходящего из них никак не может быть нейтральным по отношению к идеалам блага [4, с. 48–49].
Вторым примером толерантного режима, при котором М. Уолцер допускает ссылки на нейтральность государственной политики, являются многонациональные империи. Так, автор описывает мирное сосуществование групп в древней Александрии: «Население этого города состояло примерно в равных долях из греков, евреев и египтян, и в правление Птолемея сосуществование этих трех общин, кажется, было на удивление мирным. Впоследствии римские чиновники время от времени ставили в привилегированное положение греческую часть подданных – вероятно, из-за культурного родства или, может быть, из-за того, что те обладали более совершенной политической организацией, и этот отход от имперского нейтралитета оборачивался возникновением в городе кровавых стычек» [6, с. 50–51]. Кроме того, он обращается к опыту средневековой Турции, отраженному в системе миллетов (относительно независимых религиозных общин) Османской империи [6, с. 51]. Добавим, что модель национальной политики турков-османов рассматривалась в качестве терпимой и У. Кимликой: «Есть и другие формы религиозной терпимости, не являющиеся либеральными. Они основаны на идее о том, что каждая религиозная группа должна быть свободна организовывать свое сообщество так, как считает нужным, в том числе и нелиберальным образом. Например, в Оттоманской империи существовала система милле-тов, в которой мусульмане, христиане и иудеи признавались в качестве самоуправляющихся единиц (или «миллетов»), и им разрешалось вводить ограничительные религиозные законы для своих членов» [5, с. 300].
Нейтральность, таким образом, в многонациональных империях должна была выражаться в предоставлении этноконфессиональной группе определенной юрисдикции, что должно обеспечить определенную степень нейтралитета между государством и группой и невмешательство государства в деятельность членов группы в пределах компетенции, не затрагивающей государственный интерес. Однако подобная нейтральность (если она действительно является таковой, и тем более, если она является в уолцеровском смысле толерантным режимом) вызывает множество вопросов. Во-первых, определение самой юрисдикции носит противоречивый характер в том смысле, что именно государство задает те границы терпимости и власти группы, которые впоследствии должны демонстрировать подобный нейтралитет. Данная проблема напоминает о парадоксе прав человека, который был сформулирован Х. Арендт: они защищают от государства, при том, что такая защита возможна лишь в рамках самого государства и благодаря ему [1, с. 389–397]. Государственное наполнение компетенции группы конкретным содержанием и определяет степень терпимости государства к группе. Введение множественности юрисдикций само по себе не является самоцелью государства, эти средства направлены на решение конкретных этнических или конфессиональных задач, и было бы непростительным назвать такое разграничение нейтральностью или невмешательством в дела группы.
Во-вторых, практическая реализация подобного правового плюрализма может быть далека от своего юридического закрепления. Античная Александрия или средневековая Оттоманская империя – не единственные империи, обладающие указанным опытом. Более близкие нам примеры можно найти и в истории Российской Империи XIX–XX вв., например, в черте оседлости российских евреев. Несмотря на наделение евреев правом соблюдения собственных религиозных обрядов в армии (Устав 1827 г., раздел XIV «Об обрядах веры между военнос- лужащими евреями») и запрещением принудительного крещения, в многочисленных воспоминаниях кантонистов [9, с. 52] тех лет мы увидим совершенно иную картину. В частности, А.С. Энгельс цитирует бывшего кантониста Берко Финкельштейна: «Истязания происходили большей частью во время купанья в реке… Бывало, ефрейтор схватит кого-нибудь из нас за голову, быстро окунет его в воду 10–15 раз подряд. Тот захлебывается, мечется, стараясь вырваться из рук, а ему ефрейтор кричит: “Крестись, освобожу”. Когда же мальчик все-таки согласия не давал, несчастного выбрасывали на берег. От такого купанья многие глохли» [9, с. 151]. Были ли собственно национальной политикой эти меры или все же национальную политику выражал текст Устава, а подобные истязания являлись лишь продуктом отдельных исполнителей? Судя по бюрократическим препятствиям в строительстве синагог, вымышленным обвинениям в ритуальных убийствах, принудительным крещениям, антисемитизму самой императорской семьи, очевидным образом, государство давало понять своим поданным, что никакой нейтральности в отношении определенных этнических групп не существует, а терпимости – тем более.
В-третьих, М. Уолцер, описывая режим многонациональных империй как толерантный и называя их невмешательство в дела общины нейтральностью, как нам кажется, переносит интерпретацию современных стратегий национальной политики и законов о культуре, языке и деятельности этнических групп на законодательство о миллетах, что неверно с точки зрения заложенных в них целях. Если актуальные на сегодня проблемы мультикультурализма отражены как в причинах принятия законов, так и в целях разрешения этнических и конфессиональных разногласий, то вряд ли подобное целеполагание применялось на момент установления множественности юрисдикций в средневековой Турции. Порта, назначая миллет-баши, прежде всего руководствовалась административными причинами, удобством управления общиной посредством назначения указанного чиновника. На данного человека возлагалась большая власть для обеспечения лояльности поданных и персональная ответственность за соблюдение ими своих обязательств. Так, в ходе греческого восстания 1821 г. против османских властей патриарх Григорий V, несмотря на то, что он осудил повстанцев и отлучил их от церкви, был публично повешен на воротах своей резиденции в столичном квартале Фанар в Константинополе [10]. Второй же функцией установления мил-лета, несомненно, являлась фискальная. Нему-сульмане платили подушную подать (джизье) и поземельный налог (харадж). Подушной податью облагалась община как таковая, а поземельный налог платили за участок в целом. Сумма налогов раскладывалась внутри общины и обычно взималась с каждого ее члена в соответствии с его платежеспособностью. От уплаты налогов освобождалось нетрудоспособное население. Помимо джизье и хараджа нему-сульмане обязаны были платить так называемые «экстренные» денежные взносы – прежде всего, в случае военных действий (а их было немало), поскольку «неверные» не служили в армии [8]. Таким образом, видно, что в Османской империи цели мирного сосуществования групп друг с другом, признания различных образов жизни, иных культур и языков как основы государственного устройства никогда не ставились, и если на определенных территориях и в определенные периоды мирное сосуществование различных религиозных групп и достигалось, то лишь как сопутствующий элементов подобного плюрализма.
В-четвертых, кроме того, что, по выражению У. Кимлики, система миллетов была не либеральной, она была также частичной и распространялась лишь на «людей Писания». Османские власти объединили немусульманских подданных в три миллета: рум миллети (православный миллет), эрмени миллети (армянский миллет) и яхуди миллети (иудейский миллет). Автономия представителей авраамических религий не распространялась на язычников или зороастрийцев и тем более не учитывала разницу между образами жизни внутри этнических групп, а не только групп конфессиональных. Исключение части населения империи из сферы предоставления определенных привилегий, безусловно, также носило определенный коранический смысл, соответствовало прежде всего исламу, а не идеалам мультикультурализма. Хотя стоит сказать, что проблема выделения «основных групп», образы жизни которых «учитываются» в национальном государстве, существует и в настоящее время. Так, Тишков В.А. отмечает: «“Новодиаспоральная” конструкция безосновательно делит граждан одной страны на диаспору и, видимо, на “основное население”, когда для этого нет значимых культурных и других различий» [7, с. 461]. Обратная же сторона подобной критики заключается в том, что признание национальных меньшинств, имеющих групповые права и привилегии «позитивной» дискриминации, равно как и определение того, кто к каким группам принадлежит, является произвольным [4, с. 55].
Таким образом, мы вряд ли можем утверждать, что режим многонациональных империй был толерантным, а государство соблюдало нейтралитет в делах общины. Подобный опыт, скорее, содержит современную попытку интерпретации античной или средневековой модели национальной политики как политики мультикультурализма. При этом имперские политические меры заключают в себе консервативный коммунитаристский мультикультурализм, при котором государственные действия направлены исключительно на консервацию культурных различий [3, с. 69].
Мы также замечаем концептуальное различие в трактовке указанных толерантных режимов. При описании опыта многонациональных империй М. Уолцер придерживается совершенно другой логики «нейтральности», чем в случае с иммигрантскими сообществами. Если в толерантном режиме последних автор говорил о диалоге государства с гражданином и индивидом, и именно таким образом государство соблюдало нейтральность, то в империях все обстоит совершенно иначе – государство ведет диалог именно с группами, предоставляя им определенные юрисдикции и оперируя категориями коллективной, а не персональной ответственности. Логика нейтральности М. Уолцера в указанных толерантных режимах прямо противоположна: иммигрантские сообщества используют собственных граждан в качестве средства дистанции от этнических групп и предпочтения каких-либо образов жизни, в то время как в империях члены этнических групп, скорее, являются аналогом иностранцев, обладая собственной юрисдикцией и являясь лишь налоговыми резидентами той страны, на территории которой они находятся (или вынуждены находиться).
Историческая интерпретация нейтральности и контекст рассуждений М. Уолцера при описании классификации толерантных режимов (многонациональных империй и иммигрантских сообществ), скорее, предполагает трактовку понятия нейтральности как исторической стадии развития терпимости в политическом сообществе. М. Уолцер сам отчасти подтверждает данный вывод: «Если предшествующая версия нейтралитета, понимаемого – или, точнее, недопонимаемого – в качестве попытки избежать иных культур, ставила своей целью превращение всех детей в просто американцев (что равносильно стремлению воспитать из них поборников английского протестантизма), то идеология мультикультурализма предполагает признание представителей иных культур в качестве некоренных американцев, коими они и являются, и воспитание в них понимания собственного разнообразия и способности радоваться этому разнообразию» [6, с. 89]. Из сказанного видно, что нейтральность как «предшествующая версия» использовалась на заре строительства национальных государств, создания новых наций и отрицания имеющихся различий в образе жизни.
Подводя итоги, можно сказать, что М. Уол-цер рассматривал нейтральность как историческую попытку отделения государства от иных коллективных субъектов (этнических групп и конфессий), как несовершенную и более раннюю версию терпимости. В настоящее время подобная нейтральность в национальной политике также возможна при радикальном преобразовании сообщества, формирования общего для всех гражданского состояния (революционные события, распад государства и т. п.). Терпимость, в свою очередь, рассматривается М. Уолцером либо в качестве индивидуального свойства (отношения) человека и гражданина к иному для себя образу жизни, либо в качестве режима (практики) государства и международного сообщества, хотя первое, как правило, в рассуждениях автора обусловлено вторым. Подобные практики в книге М. Уолцера предстают в виде установок государства (программ действия), как поступить политическому субъекту в противоречивой, с точки зрения столкновения различных образов жизни, ситуации, при этом данные действия государства должны сохранять уолцеровское условие терпимости – мирное сосуществование групп.
Список литературы Нейтральность и терпимость в понимании М. Уолцера
- Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996.
- Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру. М.: Логос, 2003.
- Веретевская А.В. Мультикультурализм, которого не было: анализ европейских практик политической интеграции этнокультурных меньшинств. М.: МГИМО-Университет, 2018.
- Грей Дж. Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате современности. М.: Праксис, 2003.
- Кимлика У. Современная политическая философия. Введение. М.: Издат. дом ВШЭ, 2010.