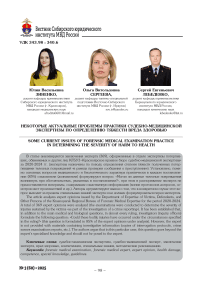Некоторые актуальные проблемы практики судебно-медицинской экспертизы по определению тяжести вреда здоровью
Автор: Зиненко Ю.В., Сергеева О.В., Лебеденко С.Е.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 3 (60), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются заключения эксперта (369), оформленные в отделе экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» за 2020-2024 гг. (экспертизы назначены по поводу определения степени тяжести полученных потерпевшими телесных повреждений «в рамках проверки сообщения о преступлении»). Установлено, помимо основных вопросов медицинского и биологического характера практически в каждом постановлении (85%) следователи (дознаватели) формулируют вопрос: «Могли ли данные телесные повреждения возникнуть при обстоятельствах, указанных в постановлении?», при этом в распоряжение эксперта не предоставляются материалы, содержащие следственную информацию (копии протоколов допросов, осмотров мест происшествий и др.). Авторы аргументируют вывод о том, что в конкретном случае этот вопрос выходит за пределы специальных знаний эксперта и не должен формулироваться перед экспертом.
Судебно-медицинская экспертиза, судебно-медицинский эксперт, заключение эксперта, вред здоровью, компетенция, специальные знания, методические рекомендации
Короткий адрес: https://sciup.org/140312412
IDR: 140312412 | УДК: 343.98:340.6
Текст научной статьи Некоторые актуальные проблемы практики судебно-медицинской экспертизы по определению тяжести вреда здоровью
З аключение эксперта представляет собой оформленное в письменной форме мнение специалиста, обладающего специальными знаниями, по вопросам, поставленным перед ним судом, следствием или сторонами процесса, содержание и оформление которого должно полностью соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.
Допущение врачами судебно-медицинскими экспертами недочетов в рамках производства судебно-медицинской экспертиз (далее – СМЭ) может повлечь сомнения у участников уголовного процесса в его обоснованности, назначение повторных экспертиз и, как следствие, увеличение сроков уголовного судопроизводства.
В современных условиях врачи судебно-медицинские эксперты реализуют единый научно-методологический подход по организации и проведению СМЭ во всех государственных судебно-медицинских экспертных учреждениях на территории Российской Федерации, что связано с существенными изменениями в нормативном ее регулировании.
Так, с 1 сентября 2024 г. вступил в силу приказ «Об утверждении Порядка проведения судебно-медицинской эксперти-зы»1 (далее – Приказ N 491н). Кроме этого, Минздрав России в работе врачей – судебно-медицинских экспертов по различным видам СМЭ рекомендует использовать методические рекомендации2, которые опубликованы на официальном сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России (далее – ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России)3.
С учетом Приказа N 491н и в связи с тем, что в положениях действующих правил по определению степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека4, несомненно, имеются недочеты, Минздравом России разработан и утвержден приказ «Об утверждении Порядка определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», который вступит в силу с 1 сентября 2025 г.5
Результат СМЭ, сроки ее производства, достоверность выводов зависят не только от врача – судебно-медицинского эксперта, составляющего такое важное доказательство по делу, как заключение эксперта, но и от следователя (дознавателя), ее назначившего, что неоднократно ранее упоминалось в специальной литературе [5; 8; 11].
Проведенный авторами анализ экспертной практики отдела экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее – ККБСМЭ) позволяет утверждать, что довольно часто следователи (дознаватели) ставят перед экспертами заведомо не решаемую задачу. Проблема в том, что, назначая СМЭ по определению тяжести вреда здоровью потерпевшего вследствие поступившего в отдел полиции спецсообщения из медицинского учреждения, где потерпевшему была оказана медицинская помощь (экспертизы назначались по материалам проверки сообщения о преступлении), практически в каждом постановлении (определении) помимо основных вопросов следователи (дознаватели) формулируют такой вопрос: «Могли ли данные телесные повреждения возникнуть при обстоятельствах, указанных в постановлении?».
Всего авторами проанализированы 369 постановлений и заключений эксперта за 2020-2024 гг. (СМЭ назначены в рамках «проверки сообщения о преступлении»).
Установлено, что в 85% проанализированных заключений эксперта формулируется подобный вопрос. В некоторых случаях имеет место постановка вопроса в предположительной форме: «Возможно ли получить указанные телесные повреждения при вышеуказанных обстоятельствах?».
В данном аспекте показателен пример, обнаруженный в архиве отдела экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц ККБ-СМЭ1. В отдел полиции N … г. Красноярска поступило спецсообщение в отношении гражданина В. Участковый уполномоченный полиции, руководствуясь ч. 2. ст. 196 УПК РФ, назначает СМЭ по установлению характера и степени тяжести вреда, причиненного здоровью в отдел экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц ККБСМЭ (экспертиза была назначена по материалам проверки сообщения о преступлении). Обстоятельства дела: в постановлении указано: «Гражданка В., 16.04.1985 года рождения ... пояснила, что 19.03.2025 г....по адресу: <…> совместно с мужем, гражданином В., ... распивали алкоголь, в ходе распития между ними произошел словесный конфликт из-за ревности ... в результате чего гражданин В. кинул в ее сторону аккумуляторную батарею от шуруповерта, попал в правый глаз, после чего они сами вызвали скорую медицинскую помощь, которая увезла ее в Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярскую краевую офтальмологическую клиническую больницу имени профессора П.Г. Макарова» (в глазной центр). После осмотра врачей более в никакие медицинские учреждения не обращалась».
В постановлении сформулированы вопросы:
«1. Имеются ли у гражданки В., 16.04.1985 г.р. телесные повреждения?
-
2. Какой вред причинен гражданке В.?
-
3. Могли ли телесные повреждения возникнуть при указанных обстоятельствах?
-
4. Какой механизм образования телесных повреждений – вид повреждающего воздействия, место приложения травмирующей
-
5. Могла ли гражданка В. получить повреждения в результате события 19.03.2025. при падении с высоты собственного роста?»
силы, направление травмирующего воздействия, от скольких ударных воздействий возникли имеющиеся телесные повреждения?
Из объектов на СМЭ представлена только «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях N3212666/А15 из ККОКБ», согласно которой «В. была осмотрена врачом-офтальмологом 20 марта 2025 года в 01:28 с жалобами на снижение зрения правого глаза, отек век, тошноту, головокружение. … Диагноз: контузия 2 степени глазного яблока и 1 степени придаточного аппарата: травматический мидриаз, подвывих хрусталика, ге-мофтальм, отслойка сетчатки? Гематома век, ссадина верхнего века правого глаза».
Анализ вопросов, поставленных перед экспертом, позволяет констатировать, что вопросы N 1, 2, 4 корректны, относятся к вопросам медицинского характера, поэтому вполне могут быть поставлены перед экспертом на разрешение в рамках назначенной СМЭ.
Вопрос N 3 выходит за пределы специальных знаний эксперта, что подтверждается выводом, сформулированным врачом – судебно-медицинским экспертом в заключении эксперта. Так, на вопрос N 3 врач – судебно-медицинский эксперт дал такой ответ: «В компетенцию врача – судебно-медицинского эксперта не входит определение возможности получения повреждений при обстоятельствах, указанных в постановлении». А на вопрос N 5 ответ сформулировал так: «Конкретно ответить на вопрос об обстоятельствах падения из положения стоя не представляется возможным, так как не известны положение тела во время падения, особенности поверхности, на которую могло произойти падение, и т.п. Кроме этого, в фабуле постановления отсутствуют сведения о факте падения гражданки В.».
Обращает на себя внимание тот факт, что ответ в выводах на вопрос: «Могли ли возникнуть указанные телесные поврежде- ния при обстоятельствах, указанных в постановлении?» – судебно-медицинский эксперт в заключении эксперта не обосновал. Подчеркнем, из вывода не ясно, почему именно вопрос не входит в его компетенцию.
Анализом заключений эксперта отдела экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц ККБСМЭ выявлено, что у врачей – судебно-медицинских экспертов нет единого подхода в обосновании ответа на сформулированный следователями (дознавателями) вопрос: «Могли ли данные телесные повреждения возникнуть при обстоятельствах, указанных в постановлении?».
Так, в некоторых заключениях эксперта ответ на этот вопрос сформулирован врачами – судебно-медицинскими экспертами иначе, что подтверждается современной практикой отдела экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц ККБСМЭ. Так, в заключении эксперта1 в разделе «Обстоятельства дела» отмечено следующее: «в отдел полиции N … МУ МВД «Красноярское» поступило спецсо-общение, зарегистрировано в КУСП N …, от 28.01.2025 г., по адресу: <…> гражданке А., 27.04.1991 года рождения были причинены телесные повреждения «поверхностная травма шеи, множественные ушибы шеи. Со слов гражданки А. 28.01.2025 ее избил и душил сожитель».
В постановлении сформулированы вопросы:
Имеются ли у гражданки А. телесные повреждения?
Если да, то, какие именно, какова их степень тяжести, механизм и локализация нанесения, какова их степень давности?
Могли ли данные телесные повреждения возникнуть при обстоятельствах, указанных в постановлении о назначении экспертизы?
На СМЭ в качестве объекта представлена только карта вызова скорой медицинской помощи, согласно которой «А. осмотрена 28.01.2025 в 04:44 с жалобами на боли в области шеи. Со слов, в 00:00 избил известный дома, пытался душить. … Локально – на шее множественные ссадины шеи, следы пальцев.
Диагноз: множественные ссадины шеи. Оказана помощь, оставлена на месте».
Подчеркнем, как и в первом примере на СМЭ участковым уполномоченным полиции в распоряжение эксперта также не были предоставлены материалы, содержащие следственную информацию.
В выводах врач – судебно-медицинский эксперт на вопрос N 3 ответил так: «В данном конкретном случае ответить на вопрос: «Могли ли данные телесные повреждения возникнуть при обстоятельствах, указанных в постановлении о назначении экспертизы?» не представляется возможным, так как для ответа на данный вопрос помимо четко сформулированной версии события необходима демонстрация нанесения повреждений, что является предметом ситуационного исследования (в рамках медико-криминалистической экспертизы, которая в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2023 г. N 491н «Об утверждении Порядка проведения судебно-медицинской экспертизы» должна проводиться в отделении медико-криминалистической экспертизы ККБСМЭ).
Таким образом, врач судебно-медицинский эксперт в конкретном случае сформулировал вывод о том, что этот вопрос может быть решен, но только в рамках ситуационного исследования при проведении медико-криминалистической экспертизы в отделении медико-криминалистической экспертизы ККБСМЭ, а не в рамках СМЭ живого лица, проводимой в отделе экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц ККБСМЭ. С этим нельзя согласиться, так как в соответствии с Приказом N 491н и методическими рекомендациями «Методика проведения медико-криминалистической экспертизы»2 проведение ситуационных исследований возможно только в тех случаях, если СМЭ назначена в рамках возбужденного уголовного дела с предоставлением полноценных материалов, содержащих следственную информацию, необходимых для дачи заключения.
Рассмотрим выявленную проблему.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – 73-ФЗ) в обязанности эксперта входит «провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам», а также «составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта».
По сути, в рамках СМЭ врач судебно-медицинский эксперт должен дать ответ на вопрос «о возможности возникновения повреждений при обстоятельствах, указанных в постановлении о назначении экспертизы» только на основании опроса потерпевшего, проведенного следователем (дознавателем) и отмеченного в постановлении в разделе «обстоятельства». Во всех проанализированных случаях в распоряжение эксперта не предоставлялись никакие материалы, содержащие следственную информацию (копии протоколов допросов, осмотра места происшествия и т.д.).
Современная практика отдела экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц ККБСМЭ показала, что если судебно-медицинские эксперты запрашивали материалы, содержащие следственную информацию, должностные лица их не предоставляли, вероятно, ввиду их отсутствия, так как СМЭ назначена в рамках «проверки сообщения о преступлении». Следовательно, в данном случае и запрашивать врачу – судебно-медицинскому эксперту их нецелесообразно.
Согласно ч. 6. ст. 57 УПК РФ эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. Такой отказ должен быть заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа.
Таким образом, подобный вопрос формулируется шаблонно практически в каждом постановлении, при этом в распоряжение эксперта не предоставляются никакие материалы, дающие возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных, на которых и должно основываться заключение эксперта (ст. 8 73-ФЗ).
Кроме этого в соответствии с п. 18 Приказа 491н «эксперт, получив объекты экспертизы, обязан… установить соответствие представленных объектов и оценить их достаточность для решения поставленных вопросов».
Подытожив сказанное, авторы считают, что вывод в заключении эксперта врач – судебно-медицинский эксперт может обосновать так: «В конкретном случае в компетенцию судебно-медицинского эксперта не входит определение возможности получения повреждений при обстоятельствах, указанных в постановлении, так как заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить их обоснованность и достоверность на базе общепринятых научных и практических данных (в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»)».
По сути, следователь (дознаватель) требует от эксперта в рамках назначенной СМЭ подтвердить достоверность показаний потерпевшего, что как раз относится к компетенции следователей (дознавателей), а не врачей – судебно-медицинских экспертов.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. N 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» даны разъяснения по поводу вопросов перед экспертом. Так, в ч. 4 постановления отмечено, что «вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по ним не могут выходить за пределы его специальных знаний… Перед экспертом не могут быть также поставлены вопросы по оценке достоверности показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, полученных в ходе производства допроса, очной ставки и иных следственных действий, в том числе с применением аудио- или видеозаписи, поскольку в соответствии со ст. 88 УПК РФ такая оценка относится к исключительной компетенции лиц, осуществляющих производство по уголовному делу».
В специальной криминалистической литературе на протяжении многих лет продолжаются дискуссии по проблемным вопросам использования специальных знаний в раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел [1; 6; 9]. Подчеркнем, имеется множество различных определений понятия «специальные знания» (а также близкого по значению, но не всегда тождественного понятия «специальные познания»), классификаций форм использования специальных знаний, их соотношений между собой и т.д. [подр.: 2, 158]. В этой связи справедливо высказывание О.Н. Кичалюк и Д.С. Ливицкой, полагающих, что «заключение считается выходящим за пределы экспертной компетенции в том случае, если для решения поставленного вопроса вообще не требуется никаких специальных знаний, если для его решения достаточно субъективных суждений, основанных на жизненном опыте, здравом смысле и др.» [4, с. 273]. Представляется, что в проанализированных авторами случаях для решения вопроса: «Могли ли данные телесные повреждения возникнуть при обстоятельствах, указанных в постановлении?» не требуется никаких специальных знаний, следователи (дознаватели) должны решить его на основании жизненного опыта и здравого смысла. Это еще раз подтверждает тот факт, что этот вопрос выходит за пределы специальных знаний эксперта.
По наблюдениям Л.Р. Галиевой и С.А. Ступиной, в настоящее время есть необходимость пересмотра и возможного расширения перечня специальных знаний в законодательстве, чтобы обеспечить более-менее точное и детализированное определение понятия «специальные знания». Это позволило бы устранить существующую правовую неопределенность, а также способствовало бы повышению качества и объективности следственных действий, требующих привлечения специальных знаний» [3, с. 405].
Авторы солидарны с позицией Е.Р. Рос-синской и А.И. Бастрыкина в постановке во- просов перед экспертом, которых и должны придерживаться следователи (дознаватели) при назначении СМЭ, а также в том, что СМЭ отвечает на вопросы медицинского и биологического характера, возникающие при расследовании преступлений [7; 10].
Подводя итог проведенного нами исследования, отметим следующее.
Приказ 491н и современные методические рекомендации по проведению различных видов СМЭ, безусловно, предназначены для повседневной работы врачей – судебно-медицинских экспертов, однако также могут быть использованы в работе следователей (дознавателей), что позволит им определиться с целью назначения СМЭ, ее возможностей, компетенции эксперта и экспертного учреждения, особенностей организации и проведения СМЭ и в конечном счете укрепить доказательственную базу по делу.
В рамках назначения СМЭ по определению тяжести вреда здоровью по материалам «проверки сообщения о преступлении» следователями (дознавателями) не должен формулироваться вопрос: «Могли ли данные телесные повреждения возникнуть при обстоятельствах, указанных в постановлении?», так как этот вопрос выходит за пределы специальных знаний эксперта.
Вопрос: «Могли ли данные телесные повреждения возникнуть при обстоятельствах, указанных в постановлении?» может быть сформулирован следователем (дознавателем) в рамках СМЭ живого лица в отдел экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц БСМЭ или в отдел сложных экспертиз БСМЭ, но в крайне редких случаях. При этом СМЭ должна быть назначена в рамках возбужденного уголовного дела, на СМЭ должны быть предоставлены полноценные материалы, содержащие следственную информацию, необходимые для дачи заключения, в постановлении должны быть четко изложены (конкретизированы) обстоятельства произошедшего события.
В сложных случаях, когда у следователей (дознавателей) возникают вопросы о возможности получения повреждений потерпевшим при тех или иных обстоятельствах и имеются все исчерпывающие документы, содержащие следственную информацию (в том числе проверки показаний на месте или следственного эксперимента с фото- или видеофиксацией), они могут назначить медико-криминалистическую экспертизу в медико-криминалистическое отделение ККБСМЭ для проведения врачами – судебно-медицинскими экспертами ситуационного исследования.
В настоящее время есть необходимость в повышении квалификации следователей
(дознавателей) по дополнительным образовательным программам соответствующего направления подготовки.
Рекомендуем регулярно проводить совместные совещания и конференции врачей – судебно-медицинских экспертов и следователей (дознавателей), где обсуждать проблемные вопросы назначения и организации производства СМЭ по установлению характера и степени вреда, причиненного здоровью.