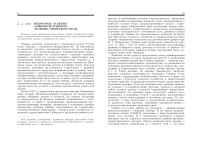Некоторые аспекты административного деления Сибирского края
Автор: Кох Людмила Альбертовна
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Политическое пространство региона и территориальное управление
Статья в выпуске: 1 (66), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены некоторые аспекты административного деления Сибирского края в 20-х гг. XX в. Представлено несколько вариантов его административно-территориального деления
Административное деление, регион, региональное управление, экономический потенциал, производительные силы, районирование, экономические районы, географические пояса
Короткий адрес: https://sciup.org/147221021
IDR: 147221021
Текст научной статьи Некоторые аспекты административного деления Сибирского края
Первые попытки «перекроить» привычную карту России были связаны с политикой продразверстки. На партийных и советских съездах, заседаниях Совета труда и обороны заявлялось, что дореволюционное административно-территориальное деление не соответствует «задачам текущего момента», поэтому его следует изменить, приспособить для организации централизованного управления страной и, в частности, для работы продовольственных комитетов. Наиболее остро эти проблемы встали в Сибири. Здесь Советам досталась огромная малообжитая территория с крайней неравномерностью природно-климатических условий, часто переходящих в экстремальные, с огромным разнообразием хозяйственных, национальных, культурно-бытовых традиций, которые необходимо было свести в единое русло регионального управления. В то же время Сибирь обладала мощным экономическим потенциалом, без которого советской власти трудно было бы устоять и решить поставленные перед ней задачи.
Летом 1920 г. в канун сбора продовольствия при Сибревкоме была создана Межведомственная комиссия по определению границ губерний, уездов и волостей. На первом заседании ее председатель В. Косарев сообщил собравшимся о необходимости «в связи с требованиями, предъявленными продовольственными органами, произвести в пожарном порядке перекройку районов Сибири, находящихся на территории, подведомственной Сибревкому». Главная роль в комиссии отводилась представителям Сибирского продовольственного ко-
КОХ Людмила Альбертовна, профессор кафедры философии Гума-нитарного института Сибирского Федерального Университета, кандидат исторических наук (г. Красноярск).
митета, по требованию которых и предполагалось «проводить регулирование пограничных вопросов» для «своевременного и наиболее полного сбора продовольственного налога»1. Одновременно перед Сибревкомом была поставлена задача организации планового хозяйственного управления, включавшая изучение экономического потенциала всех районов Сибири и разработку планов их перспективного развития. В Омске при Институте сельского хозяйства и промышленности была создана специальная комиссия под руководством профессора Н. Г. Огановского. Однако всей территории охватить не удалось. В 1920 г. еще не были отрегулированы юго-западные границы Сибирского края, границы к востоку от Енисея. Из некоторых восточных районов вообще невозможно было получить какие-либо сведения.
Наиболее четко удалось представить схему районирования Западной Сибири, в основу деления которой Н. Г. Огановский положил универсальный для Сибири признак — уровень развития сельскохозяйственного производства, по возможности учитывая признаки физико-географического характера: орографию и гидрографию края, климат, почвы, фауну, флору и т. п. Такое деление, по мнению Огановского, наиболее реально отражало возможности экономики Сибири, тесно связанной с природными особенностями. Имелось в виду, что отраслевая структура сельского хозяйства в значительной степени зависела от природно-климатических характеристик отдельных районов. Поэтому экономические районы примерно совпали с географическими поясами: тундры и северной тайги, лесного урмана (согласно современным определениям географии, это таежная зона), лесостепи, горного леса, ковыльных и полынных степей с орошением, малоплодных южных степей, переходящих в песчаную пустыню. В соответствии с этим намечались и перспективы хозяйственного развития этих районов, связанные преимущественно с сельскохозяйственным производством2.
Однако эта точка зрения не совпадала с официальными представлениями о будущем Сибири. В это время разрабатывались планы ГОЭЛРО, связанные с индустриализацией. Кроме того, деление Н. Г. Огановского выглядело слишком научным, оно не отражало существующего административно-территориального деления. Работа комиссии шла вразрез с Постановлением Сибревкома от 4 августа 1920 г., где было сказано, что экономическое районирование в результате ре-формы должно совпасть с административно-территориальным, что «административное деление социалистической Сибири должно быть приведено в соответствие с районами экономического тяготения, составляющим основу хозяйственного деления единой трудовой России»3. В октябре 1920 г. работу комиссии Огановского пришлось свернуть еще и по причине переезда советских общесибирских учреждений из Омска в Новониколаевск.
К новому этапу районирования сибирской территории экономический отдел Сибревкома приступил лишь в феврале—марте 1921 г. с приближением нового сезона сбора продовольственного налога. К этому времени из губерний поступили недостающие экономические и статистические материалы, положенные в основу расчетов при районировании. На этот раз оно охватило практически всю территорию, подведомственную Сибревкому. Как говорилось в отчете экономического отдела Сибревкома за период со 2 февраля по 1 июля 1921 г., «все губернии были разделены на экономические районы, по которым распределились волости, причем старые административные границы уездов стирались и создавались новые, каждый район был разработан в полноволостном масштабе». В результате была «вычерчена карта Сибири сорокаверстного масштаба с нанесением новых административных губернских и уездных границ»4.
Но и этот проект вряд ли мог быть использован в государственном управлении. Не будучи оконченным, он безнадежно устаревал, так как границы составляющих его районов постоянно менялись. Не дожидаясь окончания работ по составлению схемы, в Сибревкоме принимались решения то о присоединении, то об отторжении волостей и уездов Сибири относительно тех или иных губерний для удобства работы органов советского управления, продовольственных комитетов и т. п. Формирующимся органам советской власти в Сибири необходимо было в короткие сроки определить по возможности более широкие границы своих владений и отладить механизм управления территорией.
Сами авторы отмечали неточность и недоброкачественность проекта, выполненного в спешке, при отсутствии надежных картографических и статистических материалов, информации о природно-климатических и геофизических особенностях тех или иных районов, их геологическом строении. Несмотря на несовершенство, сибирский проект был одобрен административным отделом Наркомата внутренних дел, который до 1922 г. осуществлял руководство подготовкой нового административно-территориального деления и был рекомендован как образец в работе по районированию5. По-видимому, на этом этапе для центральной власти был важен прецедент внедрения реформы, а не ее качество.
Между тем проблема районирования страны приобретала государственное значение. В 1922 г. при ВЦИК была организована Административная комиссия под председательством М. И. Калинина, которая стала решать все вопросы территориального устройства страны.
Выработка теоретических и организационных принципов районирования постепенно сосредоточилась в Госплане. Этот орган уже в начале 20-х гг. XX в. получил исключительное право на выработку предложений правительству по руководству всей хозяйственной, а вскоре и общественно-политической жизнью страны. Секцию экономического районирования Госплана возглавлял профессор И. Г. Александров, один из ведущих разработчиков плана ГОЭЛРО. Он предложил в основу экономического, а затем и административно-территориального деления положить не толко количественный состав населения, как было в дореволюционной России, а потенциальные возможности развития производительных сил, преимущественно энергетических ресурсов той или иной территории. Он писал, что в основе административно-территориального деления социалистической страны должны находиться «однородные по энергетически-производственному признаку территориальнохозяйственные комплексы». «Эта организационная сфера дает возможность в условиях национализированной промышленности, транспорта и природных богатств создать систему невиданного и невозможного в буржуазном мире разделения труда на основе плана народного хозяйства»6.
В связи с этой точкой зрения работу по районированию предполагалось вести в двух направлениях. С одной стороны, Госплан определял примерную схему производственно-энергетических комплексов без обозначения пока четких границ, с другой — через местные советские органы вводилось так называемое «низовое районирование»: создание волостей, административный аппарат которых, кроме управленческих функций, играл бы роль проводников политических идей советской власти.
Непосредственное формирование региональной политики происходило в восьми областных бюро Госплана, созданных для подготовки схем районирования, включая разработку перспективных планов развития для каждого обозначенного района.
Дискуссии вокруг районирования Сибири продолжались в течение года. В октябре 1922 г. на III сессии ВЦИК IX созыва была принята схема, разработанная в Сиббюро Госплана. В ней на сибирской территории было обозначено пять областей, граничащих на востоке с Дальневосточной республикой: Западно-Сибирская с центром в Омске, Кузнецко-Алтайская с центром в Томске, Енисейская с центром в Красноярске, Ленско-Ангарская с центром в Иркутске и Якутская с центром в Якутске. В зависимости от природных и исторически сложившихся хозяйственных возможностей для этих областей с учетом их специализации намечались оригинальные модели социального и экономического развития на ближайшие 15 лет. Специалисты Госплана считали, что этого срока будет вполне достаточно, чтобы вывести сибирскую экономику на мировой уровень, а сибирякам дать возможность приобщиться к достижениям мировой цивилизации. Намечались этапы достижения этих целей: в 1921—1925 гг. — упорядочение и организация сибирского хозяйства без особых капитальных затрат, в 1926—1930 гг. — реконструкция и техническое перевооружение предприятий, в 1931 —1935 гг. — полное развертывание хозяйства, под которым понималось развитие индустриальных производств7.
Однако в Сибири эти замыслы не вызвали желаемого восторга. Мягко говоря, они были встречены с сомнением. Многие сибирские специалисты, участвовавшие в работе по районированию, не приняли проектов Госплана. Они оценивали их как «излишне академичные» и не соответствующие сибирской действительности. Сроки реализации реформы до конца 1923 г., указанные в циркуляре Госплана, считали вовсе не реальными.
В сибирских управленческих организациях в начале 20-х гг. XX в. находилось немало дореволюционных специалистов, воспринявших госплановские проекты как посягательство центральных органов государственной власти на сибирскую независимость. В органы советской власти к этому времени поступил ряд проектов о сибирском самоуправлении, в которых говорилось о независимом ведении хозяйства, подчеркивалось, что земельный фонд сибирской территории, ископаемые богатства, леса, рыбные и звериные промысловые угодья «имеют не столько государственное, сколько мировое значение и сибиряки вольны сами определить свое настоящее и будущее»8. Несмотря на то, что высшие посты советских органов управления в Сибири занимали назначенные из Москвы партийные деятели, они не могли пока переломить сибирские тенденции к независимости.
Критический анализ госплановских проектов сосредоточился в Сибирской плановой комиссии. В ответ на циркуляры Госплана было сообщено, что работы по районированию не могут быть завершены в такой короткий срок и требуют подготовки квалифицированных кадров и четкого государственного финансирования. Кроме того, подчеркивалось, что необходимо выяснить мнение населения о новом административном делении, которое неизбежно будет сопутствовать проведению реформы районирования. Нельзя было не учитывать и крайнюю неизученность природных возможностей обширной сибирской территории, отсутствие надежного транспорта и связи и т. д.
Экспертом проектов Госплана от Сибирской плановой комиссии выступил председатель секции районирования Н. С. Васильев. Он опубликовал ряд аргументированных оценок схемы районирования, предложенной Госпланом, составил об этом докладную записку Сибревкому, анализировал материалы, поступавшие от губернских плановых комиссий. В целом работа Сиббюро Госплана получила в его трудах высокую оценку. Однако, считал Васильев, в Сибири пока не сложились условия для «повальной» индустриализации, так как процент неземледельческого населения был не столь велик — 12,3 %. В традиционных земледельческих районах юга Западной Сибири, где намечалось грандиозное промышленное строительство, он едва достигал 10 %. Напрашивался вывод о том, что индустриальные планы для Сибири вряд ли осуществятся в ближайшем будущем.
Не жизненной представлялась и сама идея «расчленения» Сибири на индустриальные области. Сибирь привычно мыслилась единой территорией с исторически сложившейся хозяйственной специализацией юга с преобладанием сельского хозяйства и севера с его природными промыслами. Схема Госплана совершенно не учитывала этих особенностей сибирского хозяйства, поэтому планируемое развитие процесса индустриализации и урбанизации сибирских районов, достижения высокого уровня хозяйственной специализации, связанного с развитием энергетики, горнодобывающей промышленности, металлургии, лесопереработки, пока что казалось несбыточным.
Весной 1925 г. в Президиум ВЦИК и Госплан поступили три проекта районирования Сибири и Дальнего Востока, которые хотя и противоречили друг другу по ряду положений, но все же в большей степени, чем предложения Госплана, отражали сложившуюся после Гражданской войны обстановку в регионе. Проект Сибревкома предусматривал образование единого Сибирского края с центром в Новониколаевске в составе Омской, Новониколаевской, Томской, Алтайской, Енисейской губерний и Ойротской автономной области. Иркутская губерния временно присоединялась к обозначенной площади до оформления Ленско-Байкальского края. На территории Сибирского края на основе 23-х существующих уездов создавалось 13 округов. Разработчики из Сибирской плановой комиссии старались не разделять уже сложившиеся административно-территориальные единицы. В большинстве случаев центрами новых округов оставались прежние наиболее крупные и жизнеспособные уездные города, привычные для проживающего вокруг них населения.
Второй проект, представленный Иркутским губиспол-комом, предлагал создание Ленско-Байкальского края с центром в Иркутске в составе Иркутской и Забайкальской губерний, Бурят-монгольской республики и Канского уезда Енисейской губернии.
Третий проект Дальревкома предусматривал преобразование существующей территории Дальневосточной республики в Дальневосточный край с центром в Хабаровске. Забайкальская губерния, согласно предложенным проектам, одновременно обозначалась в составе Дальневосточного и Ленско-Байкальского краев, отдельно заявляла о себе Якутская автономная республика.
Эти проекты нарушали первоначальную схему Госплана, предполагавшую за Уралом шесть областей. Госплан вы- нужденно согласился с этими предложениями, оговорив, что они могут быть приняты как «переходная фаза». Тем более было признано, что некоторые сибирские территории в силу незаселенности и слабого хозяйственного развития не могут быть пока экономически самостоятельными9.
В 1925 г. сибирякам удалось отстоять свою идею о неделимости сибирской территории, которая воплотилась в создании в составе СССР особой административной единицы — Сибирского края с центром в Новосибирске. Однако после 1925 г. планы форсированной индустриализации Сибири были приняты как должное, начато активное их претворение в жизнь, сопровождавшееся соответствующими реформами административно-территориального деления. Уже к 1930 г. завершился поворот к первым госплановским вариантам, разделившим Сибирь на края и области с прямым подчинением Москве.
Таким образом, политика районирования в 20-е гг. XX в. была частью формирования системы регионального управления в условиях всеобъемлющей государственной собственности. Постепенное разделение Сибири на экономические области, впоследствии составившее основу административно-территориальной структуры региона, было ярким отражением этой политики, которая далеко не сразу пробила себе дорогу, так как традиционно существующее местное противодействие центру медленно сдавало свои позиции.
Список литературы Некоторые аспекты административного деления Сибирского края
- ГАНО. Ф. 1. On. 1. Д. 138. Л. 2-3.
- Огановский Н.П. Районирование Западной Сибири // Жизнь Сибири. 1922. № 4. С. 194-196.
- ГАНО. Ф. 1. Оп. Д. 138. Л. 5.
- Там же. Ф. 11-1. On. 1. Д. 182. Л. 10-11.
- Там же. Д. 138. Л. 46.
- Александров М.Т. Проекты развития Сибирского края // Плановое хозяйство. 1925. № 11. С. 300.
- Экономическое районирование России. Доклад Госплана III сессии ВЦИК. М., 192. С. 7-12;
- ГАНО. Ф. 1180. On. 1. Д. 72. Л. 42-45.
- ГАНО. Ф. 1180. On. 1. Д. 72. Л. 78-79.
- Плановое хозяйство. 1925. № 9. С. 240-241