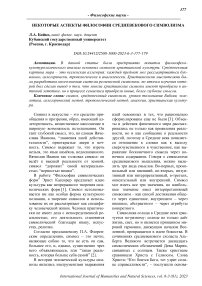Некоторые аспекты философии средневекового символизма
Автор: Бойко Л.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 6-3 (81), 2023 года.
Бесплатный доступ
В данной статье была предпринята попытка философско-культурологического анализа основных символов христианской культуры. Средневековая картина мира - это вселенская аллегория: каждый предмет мог рассматриваться буквально, аллегорически, тропологически и анагогически. Христианскими мыслителями была разработана многозначная система религиозной символики, по итогам изучения которой был сделан вывод о том, что многие христианские символы имеют прообразы в античной эстетике, но в процессе семиозиса приобрели новые, более глубокие смыслы.
Символ, средневековый символизм, уровни толкования библии, экзегетика, аллегорический метод, тропологический метод, анагогия, христианская культура
Короткий адрес: https://sciup.org/170199610
IDR: 170199610 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-6-3-177-179
Текст научной статьи Некоторые аспекты философии средневекового символизма
Символ в искусстве - это средство приобщения и прозрения, образ, имеющий аллегоричность, вещественное наполнение и широкую возможность истолкования. Он таит глубокий смысл, это, по словам Вячеслава Иванова, “знамения иной действительности”, приоткрытые двери в вечность. Символ выражает то, что изречь нельзя, это язык намёков, недосказанного. Вячеслав Иванов так толковал символ: он ведёт к высшей реальности от земной, символ “дорожит” своей материальностью, “верностью вещам”.
В работе “Философия символических форм” Эрнст Кассирер предлагает идею культуры как непрерывного творения символических форм [1]. Символ истолковывается им как особая форма культурного познания, а творение символов и использование их он рассматривает как специфику человеческой жизни. Человек практически не имеет дела с непосредственной реальностью, его деятельность становится символической благодаря языку, искусству, религии.
Согласно предлагаемому П.А. Флоренским определению, символ - это нечто, являющее собою то, что не есть он сам, большее его, и, однако, существенно чрез него объявляющееся, или “такая реальность, которая больше себя самой” [2].
В истории человеческой культуры символы являлись инструментами выражения идей освоенных и тех, что рационально сформулированы еще не были [3]. Объекты и действия физического мира рассматривались не только как проявления реальности, но и как сообщение о реальности другой, поэтому в Средние века появляется отношение к словам как к выходу сверхчувственного в чувственное, как выражение бесконечного смысла через конечное содержание. Говоря о символизме средневекового мышления, можно выделить три вида смыслов. Во-первых, произвольный или внешний, во-вторых, интуитивный или интерпретативный, в-третьих, описательный или внутренний. Символ мог иметь все три значения, но наибольшее значение имел интерпретативный символизм - как способ достижения общего через единичное, внутреннего - через внешнее, абстрактного - через атрибуты конкретного.
Символика солнца в Средние века трактуется по-разному: солнце не только даёт жизнь, свет, но и является принципом мировой гармонии, движущим началом Вселенной, превращается в идею божества. В сочинениях средневекового схоласта Альберта Великого встречается двенадцать символических обозначений Девы Марии, связанных с солнцем. Также христиане сравнивали Христа с Гелиосом. Слова Христа: “Кто боится Бога, тот узрит солнце справедливости”, - послужили основа- нием для изображения юного Христа в катакомбной живописи с лучезарным венцом вокруг головы.
Для изображения древа познания со змием использовался образ античного дракона, что стережет дерево Гесперид; с пророком Илией, возносящимся на колеснице на небо, можно провести параллель в античной мифологии с Фаэтоном; анализируя эпизод Писания, когда Моисей снимает перед терновым кустом обувь, можно вспомнить об античной традиции, когда гости снимают сандалии в знак уважения к хозяину, т.е. от античной идеи уважения данное действие трансформировалось в элемент богопочитания.
Первые христиане перенимали языческие символы, переосмысливали их. В языческой культуре изображение винограда, виноградной лозы относилось к культу бога Диониса, в христианстве вино, получаемое из винограда, олицетворяло Кровь Христову и было символом вечной жизни. На стене в катакомбах святого Себастьяна была изображена ваза с виноградом и клюющие ее птицы - душа человека, питающаяся плодами, даваемыми Господом.
Устойчивыми раннехристианскими символами становятся пальмовая ветвь, монограмма Христа, голубь как символ Святого Духа. Также одним из ранних символов стало изображение рыбы - души “уловленной Христом” или символ Самого Христа. Однако сохранялась и древнеримская символика - Ника, триумфальные венки, терновый венец.
Неожиданную метаморфозу в средневековой живописи имел образ “мирового дерева”. Оно изображается перевернутым, растущим с небес на землю: корни его - на небесах, а ветви - на земле. Это древо -символ веры и познания, воплощение образа Христа, но и более древнее значение его - символ человека-микрокосма и мира-мегакосма.
Символ выражал невидимое и умопостигаемое через видимое и материальное. Он не представлял собой лишь знак, обозначавший какую-то реальность или идею, символ замещал эту реальность и приобщался к ней. Например, в христианской традиции в руках святых иногда изобра- жались храмы или монастыри, покровителями которых они являлись. Символ воспринимал свойства анализируемого, и на символизируемое переносились свойства символа. В сознании средневековой эпохи изображение было внутренне единым с изображаемым.
Средневековые теологи-схоласты разрабатывали многозначную систему символов. Священное Писание становится первоисточником христианской символики. Климент Александрийский, а затем и его ученик Ориген, различали в Писании три уровня: тело, душа, дух Писания, т.е. буквальный, моральный и мистический уровни значения [4]. Позже стали выделять четыре уровня толкования Священного Писания: буквальный, типологический (или аллегорический), тропологический (или моральный) и анагогический (т.е. восходящий к Богу). Только последний духовный смысл Писания признавался важной истиной христианства, а смысл буквальный предназначался для массы необразованного люда. Слово считалось источником внешнего знания, но через него возможен путь к сокрытой истине. Ориген полагал, что слова в прямом смысле мешают познанию скрытого за ними смысла. Тертуллиан, Иероним и Августин, напротив, предупреждали, что увлечение аллегорическим методом может разрушить исторические основы Писания, что к аллегориям можно прибегать только тогда, когда символ истинен и в буквальном смысле; чтобы служить основой для аллегорий, истина должна заключаться в буквальном содержании [5].
Соединение всех уровней в единое целое, согласно средневековой экзегезе Писания, позволяет понимать слова. Буквальный метод признает слова в прямом смысле, аллегорический утверждает, что в Ветхом Завете есть предсказания событий из Нового Завета, тропологический - необходим для усвоения моральных основ, анагогический метод - для достижения, выходящей за пределы пространства и времени, величайшей истины. Однако к поиску мистического смысла, аллегорий и скрытой истины там, где ее нет, критиче- ски относились Гуго Сен-Викторский, Сигер Брабантский.
Символизм в Средние века стал особенным способом восприятия действительности, составлял специфику донаучного мышления, использовался для превращения истин веры в зрительные образы. Наряду с утонченной формой симво- волические представления, ритуалы и формулы, которые оставались от эпохи язычества. Христианство способствовало философской сублимации привычных для средневекового человека символов, в процессе семиозиса трансформировало античные образы и привнесло в этот комплекс представлений и образов новые элементы лического отношения к миру – христиан- и смыслы.
ским неоплатонизмом, существовали сим-
Список литературы Некоторые аспекты философии средневекового символизма
- Кассирер Э. Философия символических форм. - М.; СПб, 2002. - Т. 2: Мифологическое мышление. - 280 с.
- Флоренский П.А. Избранные труды. - М., 2007. - 464 с.
- Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. - М.: Искусство, 1995. - 320 с.
- Ориген. О началах. - Самара, 1993. - 147 с.
- Августин Блаженный. Об истинной религии. Теологический трактат. - М., 1999. - 1600 с.