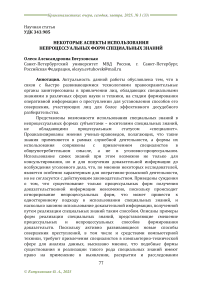Некоторые аспекты использования непроцессуальных форм специальных знаний
Автор: Евтуховская О.А.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 1 (33), 2025 года.
Бесплатный доступ
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в связи с быстро развивающимися технологиями правоохранительные органы заинтересованы в привлечении лиц, обладающих специальными знаниями в различных сферах науки и техники, на стадии формирования оперативной информации о преступлении для установления способов его совершения, участвующих лиц для более эффективного досудебного разбирательства. © Евтуховская О. А., 2025 Представлены возможности использования специальных знаний в непроцессуальных формах субъектами - носителями специальных знаний, не обладающими процессуальным статусом «специалист». Проанализированы мнения ученых-правоведов, полагающих, что такие знания применяются в рамках служебной деятельности, а формы их использования сопряжены с привлечением специалистов в общеупотребительном смысле, а не в уголовно-процессуальном. Использование самих знаний при этом возможно не только для консультирования, но и для получения доказательной информации до возбуждения уголовного дела, что, по мнению некоторых исследователей, является особенно характерным для оперативно-розыскной деятельности, но не согласуется с действующим законодательством. Приведены суждения о том, что существование только процессуальных форм получения доказательственной информации невозможно, поскольку происходит игнорирование непроцессуальных форм, что может привести к одностороннему подходу в использовании специальных знаний, и насколько законно использование доказательной информации, полученной путем реализации специальных знаний таким способом. Описаны примеры форм реализации специальных знаний, представляющие смешение процессуальных и непроцессуальных способов формирования доказательств. Поскольку активно развивающиеся новые способы совершения преступлений, в том числе и средствами компьютерной техники, требуют привлечения специалистов в компьютерно-технической сфере для анализа данных, высказано мнение, что подобные формы существования и реализации такого рода специальных знаний имеют право на применение в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений и могут стать альтернативными способами реализации специальных знаний и эффективным способом устранения законодательных лакун.
Специальные знания, непроцессуальные формы специальных знаний, субъекты специальных знаний, доказательная информация, оперативно-розыскная деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/143184409
IDR: 143184409 | УДК: 343.985
Текст научной статьи Некоторые аспекты использования непроцессуальных форм специальных знаний
Практика раскрытия и расследования преступлений различных категорий уже не одно десятилетие использует знания сведущих лиц в «науке, технике, искусстве и ремесле» [1, с. 8]. Потребность в применении научных знаний возникает у субъектов раскрытия и расследования преступлений на разных этапах данного процесса, поскольку позволяет получить ответы на вопросы, способствующие установлению истинных обстоятельств. Развитие научного знания в области химии, медицины, техники и др. достигло уже такого уровня, который позволяет в достаточно сжатые сроки получать криминалистически значимую информацию, необходимую для принятия решений по оперативным материалам или уголовным делам, потому вопрос применения специальных знаний субъектами – носителями этих знаний остается насущным. Как отмечает И. Н. Сорокотягин, «специальные знания характеризуются их предназначенностью для получения доказательственной, оперативно-розыскной и иной информации, необходимой для раскрытия и расследования преступлений» [2, с. 5].
Исследователи проблематики функционирования института специальных знаний высказывают множественные точки зрения на такие ас- пекты, как «специальные знания», «критерии специальных знаний», «формы использования специальных знаний», «субъекты, обладающие специальными знаниями», «субъекты, использующие специальные знания», и др. Поскольку уголовнопроцессуальным законом регламентирован не весь спектр категорий института специальных знаний и его субъектов, вопрос их реализации в формах, не являющихся процессуальными, обладает повышенной дискус-сионностью. Вместе с тем, некоторые авторы, например Л. Г. Шапиро, выделяют формы реализации специальных знаний «при выявлении преступлений в порядке ст. 144 УПК РФ, в том числе в оперативно-розыскной деятельности» [3, с. 14].
Основная часть
Правоохранительные органы нуждаются в специальных знаниях в различных областях современной науки и техники, возможно, даже в большем объеме на стадии досудебного разбирательства. В связи с этим представляется важной задачей «распространение практики максимально широкого использования передовых научно-технических достижений» с привлечением специалистов [4, с. 98– 99].
Данная необходимость вызвана, с одной стороны, объективной невозможностью иных субъектов раскры- тия и расследования преступлений обладать научными знаниями во всех отраслях и необходимостью раскрытия и расследования преступлений по «горячим следам» – с другой стороны. Между тем правоприменительная практика знает примеры реализации специальных знаний субъектами, не обладающими процессуальным статусом специалиста, «относящиеся к непроцессуальным способам получения доказательственной информации» [5, с. 45]. Б. М. Бишма-нов считает таковыми «специальные знания, используемые в рамках служебной деятельности» [6]. По мнению И. Б. Воробьевой, это «другие формы, связанные с использованием специальных познаний сведущих лиц, т. е. специалистов в соответствующей области в общеупотребительном, а не уголовно-процессуальном смысле» [7, с. 84]. Автор видит возможность реализации специальных знаний в форме консультирования, получения информации и иной помощи, оказываемой вне следственных действий до возбуждения уголовного дела.
Автор данной работы поддерживает мнение, высказанное Т. Д. Касымовым, что «наиболее характерно непроцессуальное использование специальных познаний в оперативнорозыскной деятельности» [8, с. 23]. В монографическом исследовании В. Н. Махова есть указание на форму использования специальных знаний, являющуюся, по нашему мнению, описанием рассмотренного далее случая «подготовленные с использованием знаний сведущих лиц, но не подменяющие заключений экспертов и других документов, составляемых в установленном порядке» [9, с. 79–83].
Рассмотрим пример.
По уголовному делу № 180/202 31 из рапорта оперуполномоченного УНК ГУ МВД России по Челябинской области В.А.Ю. от
ДД.ММ.ГГГГ, ….. по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» при осмотре изъятого у ФИО10 К. мобильного телефона «SAMSUNGGalaxyS8» обнаружены приложения: интернет- мессенджер «Telegram», к которому подключен аккаунт «@chuko07», имя «...», активирован на абонентский номер +№; приложение «SurveyCam», предназначенное для осуществления фотоснимков с нанесенными на них географическими координатами;
приложение «ScreenMaster», предназначенное для нанесения графических пометок на фотографии; кошелек криптовалюты биткоин «Exodus». При всей широте распространения цифровых технологий, очевидно, приведенные сведения могут быть получены лишь лицом, обладающими специальными знаниями в компьютерно-технической сфере.
Как правило, подобного рода сведения получают в результате компьютерной экспертизы, представляющей собой «проводимое в установленном порядке процессуальное действие, осуществляемое компетентным специалистом в целях установления закономерностей возникновения, регистрации, сбора, накопления, ввода, вывода, приема, передачи, хра- нения, уничтожения, модификации, блокирования, копирования, преобразования, отображения и сокрытия электронно-цифровых следов совершения преступных действий в сети Интернет» [10, с. 531].
По нашему мнению, подобный случай представляет собой, как писал В. И. Шиканов, «очевидное смешение процессуальных и непроцессуальных способов получения доказательственной информации» [11, с. 39–40]. Е. П. Гришина высказала позицию, что, с одной стороны, «признание права … не урегулированных уголовно-процессуальным законом форм чревато следственным хаосом», однако преуменьшать и тем более сводить к минимуму значимость непроцессуальных форм и доказательного значения их результатов «представляет собой односторонний подход к уяснению сущности формы использования специальных познаний» [12, с. 141]. Указанная в приведенном примере информация была получена в рамках оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», подразумевающего «получение информации, имеющей значение для решения задач оперативноразыскной деятельности, посредством направления запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, физическим лицам, располагающим или могущим располагать таковой, либо ее получение путем непосредственного ознакомления с соответствующими материальными носителями, в том числе посредством использования оперативных, криминалистических и иных учетов, информационных систем и других источников» [13, с. 164]. По сути, в описанном примере оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок» выступило альтернативным способом реализации специальных знаний, поскольку «ознакомление с соответствующими материальными носителями» является «почвой» для злоупотребления правом в уголовном процессе, так как нормы процессуального права допускают лишь визуальное ознакомление, а не непосредственное вмешательство в содержимое накопителей и носителей информации при помощи криминалистических программноаппаратных комплексов [14, с. 659], последнее же – прерогатива субъектов – носителей специальных знаний, к которым относятся эксперты и специалисты.
Так, по уголовному делу № 1195/20192 результатом оперативнорозыскного мероприятия «Наведение справок» явилось получение информации из памяти сотового телефона, «изъятого у ФИО2 «iPhone», имей НОМЕР. Установлено, что ФИО2 для осуществления преступной деятельности использовал вышеуказанный сотовый телефон, на котором установлено мобильное приложение «Telegram». С использованием интер-нет-мессенджера «Telegram» с аккаунта НИК-НЕЙМ, привязанного к абонентскому номеру НОМЕР», ФИО2 вел переписку с кураторами интернет-магазина наркотических средств, имеющими username НИК-НЕЙМ, username НИК-НЕЙМ. Для ведения противоправной деятельности в ин-тернет-мессенджере «Telegram» использовались личные сообщения. В ходе детального анализа переписки с пользователями «НИК-НЕЙМ» установлено, что в данных переписках происходило обсуждение рабочих вопросов, таких как уточнение мест расположения тайников-закладок с наркотическими средствами, предоставление отчетов об осуществленных ФИО2 местах закладок с наркотическими средствами, получение задержанным описаний мест расположения закладок с мелкооптовыми партиями наркотических средств, предназначенных для дальнейшего их распространения наркозависи-мым. В файловой системе телефона в папке заметки обнаружены файлы с описанием мест тайников, сделанных ФИО2, а также их координаты, полученные через GPS-спутники, и ссылки на интернет-ресурсы, где размещены фотографии тайников с наркотическими средствами». В данном случае наведение справок представляется неким объединением компьютернотехнической экспертизы и в какой-то мере следственного осмотра. По мнению С. Б. Россинского, «ориентирующие и прочие вспомогательные сведения нередко оказывают неоценимую помощь в продуктивном расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел», а «различные аспекты работы с такой информацией составляют львиную долю предмета современной криминалистики и весь предмет теории оперативнорозыскной деятельности» [15, с. 70]. Очевидно, в описанных случаях арсенал используемых «специальных знаний» выходит за рамки привычного нам восприятия способов их реализации на практике, заключающихся в обнаружении, изъятии, фиксации следов, консультативной, разъяснительной функции и проведении исследования криминалистически значимых объектов. Закономерно возникают вопросы: Что сподвигло правоприменителей на подобные шаги? Насколько вписывает- ся подобная практика в действующее уголовно-процессуальное законодательство?
Данная практика не является общеприменительной (передовой опыт УНК ГУ МВД по Челябинской области), однако эффективность ее не оставляет сомнений. Разумеется, реализация данного подхода стала возможной благодаря наличию высококвалифицированных специалистов в данной области знаний, а также тому, что процесс извлечения и анализа подобного рода данных на практике осуществляется посредством информационно-аналитической экспертизы, которая в экспертнокриминалистических подразделениях органов внутренних дел не производится и требует обращения в сторонние частные организации на возмездных началах и в силу организационных причин, что существенно увеличивает срок установления необходимой в доказывании информации. В данной ситуации лица, осуществляющие такого рода деятельность, по факту являющиеся «сведущими свидетелями», обладающими специальными знаниями, позволяют решить определенный перечень возникающих на практике проблем «без излишнего удорожания и усложнения» [16, с. 239-246]. Другой стороной такой практики является несогласованность с актуальным уголовно-процессуальным законодательством, поскольку ни форма реализации специальных знаний, ни субъект («сведущий свидетель») не закреплены законодательно. Однако Э. А. Васильевым, Г. А. Корниловым, И. Г. Корниловой подчеркивается, что «законодатель закрепил за результатами ОРД возможность быть поводом и основанием для возбуждения уголовного дела» [17, с. 43], что подтверждается и практикой, поскольку ре- зультаты, полученные указанным выше путем, уже в рамках возбужденного уголовного дела ложатся в основу заключения эксперта.
Выводы и заключение
Согласимся с мнением А. В. По-бедкина о том, что уголовнопроцессуальное право призвано устанавливать надежные гарантии как правильного установления обстоятельств по уголовному делу, так и защиты прав и законных интересов каждой личности, участвующей в уголовном судопроизводстве. Автор справедливо отмечает, что никакие иные обоснования изменения процессуальной формы не могут быть приняты [18, с. 118]. С другой стороны, при всей справедливости мнения А. В. Победкина, мы не должны забывать, что «действенность правового регулирования зависит от разнообразия применяемых приемов, умелого учета социальных ценностей, гибкого и дифференцированного подхода к методу регулирования в зависимости от природы отношения» [19, с. 41– 42]. Подобная практика со всей очевидностью обогащает инструментарий доказывания и способствует достижению цели уголовного процесса, которая «заключается в обнаружении истины всеми признаваемыми законом способами» [20, с. 71]. Не противоречат подобные методы и Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном пригово-ре»3, в котором говорится о возможности использования в качестве доказательств по уголовному делу ре- зультатов ОРМ, если такие ОРМ проведены для решения задач, указанных в ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»4. Подобные формы использования специальных знаний являются закономерной реакцией на совершенствование методов совершения преступлений.
Некоторые ученые-юристы высказывают мнение о закреплении нетрадиционных и перспективных форм использования специальных знаний, относя к ним «привлечение специалиста к совершенствованию и разработке новых научнотехнических средств и методов обнаружения, исследования, изъятия и закрепления вещественных доказательств» [21, с. 75–76]. Нельзя не согласиться с мнением, высказанным С. Б. Россинским в уже упомянутой нами публикации, что «сегодня в правоприменительной практике наблюдается объективная потребность в использовании результатов непроцессуальных мероприятий в качестве полноценных средств уголовно-процессуального доказывания» [15, с. 70]. Использование специальных знаний в такой форме видится нам одним из «эффективных способов борьбы с пробелами в законодательстве» [22, с. 60], а их подтверждаемое практикой наличие, по нашему мнению, отражает необходимость ее законодательной регламентации.