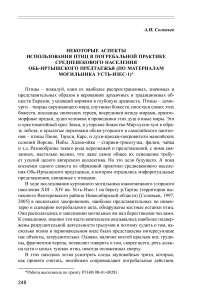Некоторые аспекты использования птиц в погребальной практике средневекового населения Обь-Иртышского предтаежья (по материалам могильника Усть-Изес-1)
Автор: Соловьев А.И.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XIV, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521443
IDR: 14521443
Текст статьи Некоторые аспекты использования птиц в погребальной практике средневекового населения Обь-Иртышского предтаежья (по материалам могильника Усть-Изес-1)
Птицы – пожалуй, один из наиболее распространенных, значимых и представительных образов в верованиях архаичных и традиционных обществ Евразии, уходящий корнями в глубокую древность. Птицы – демиурги – творцы окружающего мира, спутники божеств, ипостаси самих этих божеств, посланцы эпических героев, посредники между мирами, орнито-морфные предки, души человека и проводники этих душ в иные миры. Это и хрестоматийный орел Зевса, и угорское божество Мир-сусне-хум в образе лебедя, и крылатые персонажи обско-угорского и самодийского пантеонов – птицы Пюне, Таукси, Карс, и духи-предки-покровители мансийских селений Ворсик, Йибы. Халев-ойка – старики-трясогузка, филин, чайка и т.д. Разнообразие такого рода персонажей и представлений, с ними связанных, настолько велико, что даже самое общее их освещение требует усилий целого авторского коллектива. Но это дело будущего. А пока коснемся одного сюжета из обрядовой практики средневекового населения Обь-Иртышского предтаежья, в котором отразились мифоритуальные представления, связанные с птицами.
В ходе исследования курганного могильника южнотаежного угорского населения XIII – XIV вв. Усть-Изес-1 на берегу р.Тартас (территория нынешнего Венгеровского района Новосибирской области) [Соловьев, 1997, 2005] в нескольких захоронениях, наиболее представительных по инвентарю и сценарию погребального акта, обнаружены костные останки птиц. Они располагались в заполнении могильных ям над берестяными чехлами. К сожалению, именно эти части комплексов оказывались наиболее подвержены разрушительной деятельности грызунов и поэтому судить о том, насколько полно в первоначальном виде были представлены интересующие нас объекты, затруднительно. Однако, наличие костей крыльев ног, грудины, фрагментов черепа, позволяет говорить о том, скорее всего, речь должна идти о целых тушках птиц, некогда положенных сверху.
В этих находках легко усмотреть следы заупокойных тризн, которые, как принято считать, неизбежно сопровождают погребальные действия.
Но возможна и иная трактовка этих находок. В представлениях обско-угорского и самодийского населения Среднего и Нижнего Приобья птицам отводится видное место. Их роль особенно актуализируется в переломные моменты жизни человека, когда традиционное сознание сталкивается с необходимостью соприкосновения с сакральным миром [Сагалаев,1991, с.86]. Одним из таких моментов является переход человека в иные миры. Согласно данным В.Н.Чернецова, одна из душ человека представляется в виде птицы [Чернецов, 1959, с.126, 128]. Именно этой душе покойный обязан возможностью своего дальнейшего перевоплощения и последующего возвращения на землю в человеческом обличии. По справедливому замечанию А.М.Сагалаева, «идея круговорота жизни оказывается чрезвычайно значимой для урало-алтайского мира», основные блоки мироощущения которого «просты и понятны: нельзя допустить бесследного исхода живого существа, ибо общество постоянно озабочено поддержанием своего наличного бытия» [1991, с.139-140]. И вполне естественно, что весь круг действий, обеспечивающий возможность такого круговорота, а следовательно, и души становились объектом особых забот соплеменников.
Для достижения этой цели использовался весь спектр доступных обрядовых и магических методов – имитативных и контагиозных. У аборигенов западносибирской тайги существовал обычай наносить птицевидные татуировки, которые делались, чтобы удержать душу человека в теле при жизни и после смерти помочь достигнуть загробного мира [Чернецов, 1959, с.128,129,131]. Очень близким по своему сакральному смыслу оказывается и традиция делать рисунки на поверхности погребальных сооружения. Это могли быть штриховые наброски, сделанные углем, ножом или даже фигурки, вырезанные из бересты и закрепленные снаружи [Чернецов 1959, с.144; Кулемзин, 1984, с137, Соколова, 1980]. Такие обычаи зафиксированы на Казыме, Северной Сосьве, Югане и, вообще, достаточно широко – на Средней и Нижней Оби. Сюжетами рисунков были небесные светила и птички. Планеты должны были обеспечить ориентацию в полутемном ином мире, а птичка доставить сюда душу. Впрочем, справедливости ради отметим, что по другой версии (С.И.Руденко) птичка должна была привязать покойного (могильную душу) к месту погребения и ограничить её возможности бродить вокруг [Кулемзин, 1984, с.138; Чернецов, 1959, с.144].
Традиция нанесения птицевидных изображений на поверхности берестяных погребальных чехлов у угорского населения Обь-Иртышского пред-таежья достаточно стара. Во всяком случае, среди материалов некрополя XIII – XIV вв. комплекса памятников Сопка-2 на р.Тартас (погр.№670) есть стилизованные граффити, которые могут быть соотнесены со стилизованным изображением “плишки” [Молодин, Соловьев, 2004, с. 102-104. Рис.XIII] – некой собирательной птицы, “птички”, “пичужки” [Сим-ченко, 1965, с.106, табл.42,45,48], знак которой (“плишка”), по мнению Ю.Б.Симченко имел культовое значение и часто ставился родственниками [1965, С.106-107]. Изображения птички-плишки известны и среди упо- минавшихся уже татуировок [Там же, с.107], цель которых была удержать душу, сторожить её при жизни и сопровождать после смерти в загробный мир [Чернецов, 1959, с.128-9].
Практика нанесения подобных изображений известна и у самодийцев Западной Сибири, которые рисовали на “крыше” – верхней доске надмогильных домиков, а так же на отдельных досках, которые клались поверх могилы [Гемуев, Пелих, 1993, с.291 – 292; Бауло, 1980, рис.4].
Обратим внимание на то, что кроме птичек на поверхности гроба ханты иногда рисовали и какое-то животное похожее на лося, которое, как считалось, перевозит покойника в Нижний мир [Полевые материалы А.В.Бауло]. Суммируя сказанное, отметим, что в этих случаях представители животного и крылатого мира оказываются связанными с заупокойной транспортировкой какой-то нематериальной части покойного. Думается, не требует особых доказательств тот факт, что данные изображения являются смысловым аналогом реальных живых существ. Так «лосевидные» животные явно алломорф оленей, использовавшихся в погребальной практике угорского и самодийского населения Приобья, которые в свою очередь сами являются алломорфом лошади – основного транспортного животного в обрядовой практике средневековых популяций Северной и Центральной Азии). Аналогично дело обстоит и с птицами. Меж культовых действий церемоний угорского населения Приобья сохранился ритуал «проводов души» (высвобождения некой жизненной сущности связанной с конкретным усопшим человеком и пребывавшей в его изображении Опт-акань – обские угры, «Кедол-куллага» – самодийцы), описание которого для разных групп обских угров сделаны В.Н.Чернцовым и А.В.Бауло [Чернецов, 1959, с.151; Бауло, 2002, с.62-63], а для селькупов Г.И.Пелих [1980, с.60]. По сути, этот обряд можно назвать «вторыми похоронами», с которыми он во многом совпадает структурно и, очевидно, связан происхождением [Молодин, Соловьев, 2007]. Особо отметим, что в этих случаях используются тушки птиц (в данном случае уток), которые мыслятся провожатыми улетающей души, и то обстоятельство, что на памятнике Усть-Изес-1 есть подкурганные объекты, скорее, всего связанные с такими обрядовыми действиями.
Использование реальных представителей териофауны в ритуальной практике древнего населения Евразии феномен самой широкой культурной, территориальной и культурной принадлежности. Не являются исключением и сакрализуемые обрядами пернатые создания. С учетом того места, что отводится им в мифоритуальных воззрениях лесного населения Западной Сибири, складывается впечатление, что птицы, остатки которых были обнаружены над берестяными чехлами усть-изесских погребений, являлись важными участниками, погребальных мистерий, в которых им отводилась роль доставлять некое жизненное начало усопшего человека «в ту область мифического пространства, откуда его вновь получают люди» [Сагалаев, 1991, с.125].
Не исключено, что и те разрозненные кости пернатых, что были встречены в других погребениях некрополя, да и, вообще, порой попадаются в надмогильных сооружениях и заполнениях ям, так же связаны совсем не с тризнами, а с порциальным употреблением в обрядовой практике тушки птицы. В этих случаях использована только кожа (снятая вместе с перьями, крыльями и лапами), которая имела самостоятельное значение, аналогично шкурам животных. В частности, лошадей, их которых делались макеты-чучела. Кстати, погребения со шкурой или чучелом лошади известны среди материалов могильника Усть-Изес-1. Отметим, что практика, помещения шкурок крылатых созданий, снятых вместе с перьями, крыльями и лапами, хорошо известна на культовых местах обских угров [Гемуев, 1990, с.142]. Здесь же после совершения цикла необходимых церемоний сохраняются и шкуры других животных. Т.е. можно сказать, что в данном случае налицо явления одного типологического ряда. Рисунки же на погребальных конструкциях оказываются, на наш взгляд, продолжением архаичной традиции сакрального использования терио- и орнитофауны и фактически являются дематерилизацией живых существ.
Смысловое значение этих феноменов в погребальной практике угорского, да, пожалуй, и самодийского населения за многие сотни лет мало изменилось, что позволяет говорить о глубоких многовековых корнях мировоззренческих идей, пульс которых ощущается как минимум за 600 лет до наших дней.