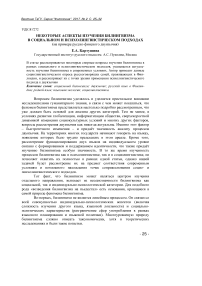Некоторые аспекты изучения билингвизма в социальном и психолингвистическом подходах (на примере русско-финского двуязычия)
Автор: Картушина Елена Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые спорные вопросы изучения билингвизма в рамках социального и психолингвистическом подходов, указывается актуальность изучения билингвизма в современных условиях. Автор приводит данные социолингвистического опроса русскоговорящих семей, проживающих в Финляндии, и рассматривает их с точки зрения применения психолингвистического подхода к двуязычию
Социальный билингвизм, двуязычие, русский язык в финляндии, родной язык, языковая экология, социолингвистика
Короткий адрес: https://sciup.org/146122117
IDR: 146122117 | УДК: 81''272
Текст научной статьи Некоторые аспекты изучения билингвизма в социальном и психолингвистическом подходах (на примере русско-финского двуязычия)
Вопросам билингвизма уделялось и уделяется пристальное внимание исследователями гуманитарного знания, в связи с чем может показаться, что феномен билингвизма представляется настолько подробно рассмотренным, что уже должен быть основой для анализа других категорий. Тем не менее, в условиях развития глобализации, информатизации общества, сверхскоростной динамикой изменения социокультурных условий и многих других факторов, вопросы рассмотрения двуязычия как никогда актуальны. Именно этот фактор - быстротечного изменения - и придаёт значимость анализу процессов двуязычия. На территориях многих государств начинают говорить на языках, появление которых было трудно предсказать в этом ареале. Кроме того, рассмотрение функционирования двух языков на индивидуальном уровне связано с формированием и поддержанием идентичности, что также придаёт изучению билингвизма особую значимость. В то же время изученность процессов билингвизма как в психолингвистике, так и в социолингвистике, не позволяет охватить их полностью в рамках одной статьи, однако нашей задачей будет рассмотрение их на предмет соответствия современным условиям и возможного нахождения точек соприкосновения социо- и психолингвистического подходов.
Тот факт, что билингвизм может являться центром изучения отдельного направления, вытекает из неоднозначности билингвизма как социальной, так и индивидуально-психологической категории. Для подобного рода «возведения билингвизма на пьедестал» есть основания, кроющиеся в самой природе феномена билингвизма.
Во-первых, билингвизм не является линейным процессом. Он связан со всей совокупностью индивидуально-психологических аспектов (включая сложность изучения другого языка, языковой лояльности) и социальнополитических характеристик (разграничение сфер употребления в рамках языкового планирования и языковой политики). Многоуровневую природу билингвизма сложно описать таксономически, хотя в теоретических исследованиях и были такие попытки.
Во-вторых, сложность определения границ одного языка в паре языков, трудность определения того, где заканчивается сфера влияния одного языка, уступая её другому или другим. Можно лишь описать те коммуникативные ситуации, в которых применяется тот или иной язык, определить случаи интерференции, подробно разъяснить механизм переключения кодов в сознании билингва, но нельзя чётко определить границы между языками.
В-третьих, отношение к билингвизму как со стороны общества, так и со стороны отдельно взятого индивида, весьма неоднозначно. На индивидуальном уровне отношение в рамках определённой пары языков связано с различными индивидуальными преференциями к одному из языков, употреблением одного из языков в заданных коммуникативных ситуациях, сферах общения, сложностью понятия «родной язык». На социальном уровне это связано с прагматическими характеристиками, отношением к билингвизму как таковому.
Теперь рассмотрим эти аспекты более подробно на предмет соответствия заявленной цели – показать точки соприкосновения в социолингвистических и психолингвистических концепциях билингвизма.
Говоря о комплексности билингвизма как феномена, мы имеем в виду многоаспектность, нелинейность этого явления. Традиционным в лингвистике считается рассмотрение билингвизма в социальном аспекте, включая функционирование двух языков на определённой территории, анализ их статуса, степени распространения и сфер применения, и психолингвистическом, изучающем психические механизмы использования двух языков, языковой интерференции. Попытка объединения этих двух аспектов отнюдь не нова. В частности, в 1990 годах И.Н. Гореловым был предложен термин «социопсихолингвистика», одним из предметов изучения которой, по мнению исследователя, должен был быть именно билингвизм [3: 137]. Обращает на себя внимание в этой связи и концепция М.К. Губогло, который, ещё в 1970-х годах прошлого столетия, предложил выделять три составляющие при изучении феномена билингвизма: а) языковые – формы и способы существования языков; б) личностно-социальные – характеристики самих носителей билингвизма; в) речевые, включающие знание и употребление в разных сферах деятельности [4: 112–113].
Однако подобного рода «тенденция к объединению» не является универсальной и общепризнанной в изучении билингвизма, а, напротив, всё же большинство исследований двуязычия не выходило за рамки либо социолингвистического, либо психолингвистического направлений. С точки зрения Е.М. Верещагина, «не может быть такого существенного признака двуязычия, который был бы приемлемым для социологии, языкознания, педагогики, психологии, паралингвистики» [1: 54]. Идея изучения билингвизма в рамках одного прикладного аспекта гуманитарного знания перекликается и с точкой зрения А.П. Майорова, отмечающего обречённость на провал любых исследований, связанных с переносом психолингвистического определения билингвизма на социальное, с конструированием абстрактных сущностей типа «идеальный билингвизм», «искусственный интеллект», поскольку в их основе лежит неразрешимость противоречий между общественным характером языка и индивидуальным характером речи [9: 61]. С точки зрения исследователя, для - 26 - описания билингвизма в социальном и психологическом аспекте может быть применён термин «языковое пространство» как совокупность «интерсубъективных и интрасубьективных реальностей» [цит. раб.: 63], и которое является составной частью «билингвального коммуникативного пространства как формы сосуществования, взаимодействия и функционирования двух языков в определенный исторический период в двуязычном обществе» [цит. раб.: 63]. С другой стороны, термин «языковое пространство» является принятым в лингвистике, но имеет отношение только к эмпирическому описанию и вряд ли может быть теоретически переосмыслен.
Термин «языковое пространство» подводит нас ко второму из обозначенных в начале статьи аспектов билингвизма, а именно, размытости границ в сосуществовании и совместном функционировании двух языков, как в социальном, так и в индивидуальном уровнях. В социальной лингвистике для реализации этой цели - установить алгоритм существования двух и более языков в определённом социуме - Э. Хаугеном была разработана концепция «языковой экологии», согласно которой необходимо поддерживать существование языка в любой форме, подобно тому как сохраняются редкие виды фауны и флоры [12]. Концепция Э. Хаугена обрела достаточную популярность в лингвистике, но не стала общепризнанной. Ключевой причиной этого, возможно, является ориентированность на социальноязыковое планирование, на общее коллективное признание необходимости сохранять тот или иной язык, что принимается в некотором роде «по умолчанию». Но необходимость сохранения и продвижения определённого языка не всегда совпадает с индивидуальным выбором, с языковой лояльностью билингва.
В противовес данной социально и коллективно-направленной концепции Э.Хаугена была выдвинута концепция Дж. Верча, которая, напротив, во главу угла ставит индивидуальный выбор человека в отношении языка. Согласно концепции Дж. Верча, индивид действует с помощью медиаторов, выступает как агент опосредованного действия, конечная единица анализа. Язык как среда служит не только проводником человеческих действий, но формирует это действие, точнее, является непосредственным выражением действия [2]. В некотором роде эти концепции дополняют друг друга - концепция Э.Хаугена предлагает методологическую основу в случае коллективного выбора языка, в то время как концепция Дж. Верча - в случае индивидуального.
Говоря о выборе одного из языков в ситуации двуязычия, мы подходим к третьему аспекту, связанному с выделением одного из языков как родного, и с отношением к билингвизму как таковому со стороны общества и государства. Споры вокруг понятия «родной язык» со стороны лингвистов не утихают, одной из причин чему является соотнесённость данного понятия с психическими, ментальными процессами человека, его социализацией. Сложность данного понятия не позволяет свести его к наиболее распространённому, учебному его определению, «язык того этноса, к которому человек принадлежит» [6]. Другой подход к определению понятия «родной язык», на который традиционно ссылаются исследователи, - это концепция Ю.А. Сорокина, согласно которой основным признаком «родного языка»
является «возможность самоидентификации». В рамках данного подхода родной язык предстает как «субстанция», которая связана с сознанием и самосознанием [11: 10]. Нельзя не учитывать значимость родного языка в процессе познания, однако данное определение в его преломлении к билингвизму вызывает скорее вопросы, чем дает ответы. В этой связи нам более близка точка зрения В.Г. Костомарова, отмечающего, что «даже в смешанной языковой среде разнонациональной семьи одновременность и одинаковая роль двух языков в выработке мыслительной способности, а затем и в социализации личности сомнительны» [8: 495]. Сложность, с точки зрения учёного, в том, что билингв вынужден попеременно находиться в двух мирах, в мирах двух языков, поскольку одновременное существование в них невозможно, в результате чего снижается способность личности к самореализации и самовыражению. В конечном итоге, человек вынужден делать выбор в пользу того или иного языка.
Решение о выборе в пользу одного из языков в качестве доминирующего в ситуации индивидуального двуязычия, сопряжено со многими факторами социального и психологического порядка. Как правило, выбор языка в качестве родного всегда происходит осознанно, даже если изучение одного или обоих языков происходило непроизвольно. Например, ребёнок может свободно изучать два языка с раннего детства, и на первоначальном этапе лексические пространства двух языков могут смешиваться, но позднее происходит сначала разграничение языков, а затем и разграничение коммуникативных ситуаций, однако, если какой-то язык в ситуации двуязычия не использовать, то компетентность владения этим языком может снижаться и/или оставаться на том уровне, когда использование этого языка прекратилось. Именно этим может объясняться появление акцента (который, как известно, первым появляется в речи и последним исчезает), употребление устаревших слов, сомнения в лексической и грамматической правильности своей речи на одном из языков. Это подводит нас к другому аспекту билингвизма, а именно – социально-прагматическому, который тоже нельзя описать однозначно. Сам термин «двуязычный», и его английский эквивалент bilingual подразумевает владение двумя языками на достаточно высоком уровне.
Отношение общества к билингвизму также не всегда было стабильноположительным. По данным работы [12], двуязычие было реабилитировано после 60-х гг. прошлого столетия, до этого оно считалось признаком глупости, низкого происхождения, в связи с чем имели место индивидуальные случаи отказа от одного из языковёв пользу другого как более престижного, хорошее знание которого в определенном социуме было более перспективным. В настоящее время можно говорить скорее о положительном отношении к двуязычию. Доказательством этого может служить исследование [7], в котором автор отмечает, что «преимущества билингвизма всегда превосходят недостатки» [цит. раб.: 12]. В исследовании также отмечается, что билингвизм в наше время становится культурной универсалией, он важен для обмена информацией и является способом разрешения национальных и культурных противоречий. Кроме того, билингв, овладевая языками в раннем детстве, в лучших отношениях с родственниками, тем самым устанавливается - 28 - трансляция культурных ценностей. Билингв также обладает более развитыми языковыми способностями, лучше понимает и ценит обе культуры.
Таким образом, мы сталкиваемся с противоречием: с одной стороны, билингвизм как социальное явление уже воспринимается положительно, и является маркером образованности человека, его идентичности, но, с другой стороны, на индивидуальном уровне билингву всегда предстоит сделать выбор и определиться с понятием «родной язык», поскольку, как уже было отмечено выше, это необходимо, чтобы избежать недостаточной самореализации, формирования некоторой другой личности, называемой в методике преподавания языка «вторичной языковой личностью». С нашей точки зрения, сам этот термин априори подразумевает существование «первичности» в структуре языковой личности, т.е. владение родным («первичным»), языком.
Решение этой дилеммы всегда связано с индивидуальным выбором. Билингву приходится делать выбор, на каком языке говорить с ребёнком, с кем на каком языке говорить, в каких коммуникативных ситуациях использовать тот или иной язык. Это касается и описания эмоций. Некоторым компромиссом является также употребление двух языков при общении в интернете, в социальных сетях, когда языки фигурируют попеременно или с использованием лексических элементов из другого языка.
Достаточно распространённым в лингвистике также является мнение, что использование другого языка билингва при общении на родном языке – это фактор конструирования идентичности. В частности, употребление английских слов в молодёжном сленге уже не вызывает удивления.
Однако маркером идентичности является не только факт использования другого языка, но и выбор того уровня, который билингв выбирает для того или иного языка. Например, в речи соотечественников, проживающих за рубежом, можно часто слышать комментарии о своем родном языке: «у вас такой хороший русский, а я вот подзабываю его»; «мои дети говорят уже не на том русском, который сейчас»; «не знаю, как это будет по-русски». Не отрицая, что подобного рода отношение к своему родному языку является маркером самоидентичности, т.е. самоидентификации себя как русского, речь скорее идёт о соотнесении билингва с теми русскими, которые проживали в России на момент смены места жительства человека, чем с теми, кто сейчас проживает. Для некоторых, один из языков может поддерживаться «в рабочем состоянии», или даже в пассивном (человек не говорит на языке), но при необходимости может перейти из пассивного состояния в активное его применение и использование.
Важно также иметь в виду, что даже при индивидуальном выборе языка при билингвизме должен учмиываться и аксиологический аспект. При выборе одного из пары языков в качестве родного, второй язык при билингвизме не теряет своей ценности. Билингв может использовать второй язык не только ради конструирования самоидентичности, но потому что язык представляет ценность как знание, как собственный опыт и этап личностного становления. В данном случае ведущей становится категория сакрального в языке, языка как ценности знания, о которой говорил М. Монтень:
«Что ценность зависит от мнения, которое мы имеем о них, видно хотя бы уже из того, что между ними существует много таких, которые мы рассматриваем не - 29 - только затем, чтобы оценивать их, но и с тем, чтобы оценить их для себя. Мы не принимаем в расчёт ни их качества, ни степень их полезности; для нас важно лишь то, чего нам стоило добыть их, словно это есть самое основное в их сущности: и ценностью их мы называем не то, что они в состоянии нам доставить, но то, какой ценой мы их достали» [10: 235].
Действительно, двуязычие не может быть сведено только к изучению языка. Двуязычие, как отмечает А.А. Залевская [5: 107–109], это «функциональная динамическая система», которая формируется через переработку речевого опыта и опыта познания мира, при взаимодействии ряда внутренних и внешних факторов. Функциональная система двуязычия характеризуется изначальной предметностью и пристрастностью, переносом навыков (внутриязыковых и межъязыковых) [цит. раб.: 107–109].
Динамичность изменения двуязычия показывают и данные анкетирования, социолингвистического исследования русскоязычных семей, проживающих в Финляндии. В анкетировании приняли участие 152 респондента – русские, проживающие в Финляндии. Время проживания в Финляндии и возраст респондентов нами не учитывались. Результаты приведены в таблице.
Таблица
|
Русский |
Финский |
Финский и русский |
Другой (иностр.) язык |
|
|
Считаю родным языком |
92% |
6% |
1% |
- |
|
Родным языком детей будет |
27% |
49% |
34% |
- |
|
Дома общение ведется в основном на |
95% |
3% |
2% |
- |
|
Для просмотра кино и телевидения в основном выбираю |
72% |
14% |
10% |
4% |
|
На работе в основном использую |
78% |
12% |
4% |
6% (английский - 4%; 2% - шведский) |
|
Для работы в интернете в основном использую |
8% |
61% |
12% |
19% (2% - шведский, 17% - английский) |
|
Для общения и развлечения в Интернете в основном использую |
27% |
35% |
14% |
3% - шведский, 21% -английский |
Приведённые в таблице данные показывают, что 6% респондентов уже считают родным финский язык, что говорит о случаях отказа от родного языка в случае смены места жительства. Однако, значительное количество (92%) показывает, что родным языком остается именно тот, который выучился с детства. Лишь 1% опрашиваемых указали, что оба языка являются родными, что и подтверждает приведённое выше утверждение о доминировании одного из языков. 1% приходится на вариант «затрудняюсь ответить».
Поскольку количество тех, кто считает, что родным языком уже не будет русский (49%), превышает тех, кто считает, что русский останется родным языком, почти в два раза (27%), можно говорить о ситуации изменения языковой лояльности. Также доля тех, кто полагает, что родными могут быть два языка, говорит о скорее положительном отношении к билингвизму. Родной язык как материнский язык (mother tongue) используется в основном в ситуации семейного общения (95%), а маленький процент (3%) тех, кто в ситуации смены места жительства меняет родной язык в семейном общении, говорит о высокой степени языковой лояльности. Этим также и объясняется предпочтение в пользу родного языка для просмотра кино и телевидения (72%).
Небольшое количество тех, кто использует русский в качестве основного языка на работе, говорит о доминировании финского как основного, однако в данной графе появляется и доля других иностранных языков – 4%, равные доли которых приходятся на шведский и английский. Примечательно, что доля иностранных языков возрастает и при выборе языка для работы в интернете, основным из которых является английский, составляет 19%. На доминирование английского языка в интернете указывает и увеличение его доли в качестве выбора языка при общении в интернете – 21%.
Обращает на себя внимание тот факт, что в целом по результатам исследования доля шведского языка незначительна, несмотря на то, что шведский является вторым государственным языком в Финляндии. Скорее всего, это свидетельство тому, что социальный билингвизм не всегда целиком и полностью отражает индивидуальные случаи билингвизма.
Трактовка результатов эксперимента была бы неполной, если бы учитывались только социолингвистические аспекты, такие как распространение русского языка на территории Финляндии, демографическая мощность данного идиома, языковая лояльность. Применение же психолингвистической трактовки двуязычия как «функциональной динамической системы» (в её трактовке А.А. Залевской), выделение «родного языка» из двух, рассмотрение восприятия билингвизма как феномена в индивидуальном и социальном аспектах дают более подробную трактовку результатов.
Разрешению дилеммы индивидуального выбора и социального принятия билингвизма может способствовать объединение методов социолингвистики и психолингвистики в отношении описания отдельно взятого случая билингвизма или же многочисленных случаев билингвизма в ситуации проживания на определённой территории этнического сообщества. Социальная лингвистика может и призвана описать статус каждого из языков в ситуации двуязычия, степень его распространения и учёт в языковом планировании и языковой политике, в то время как психолингвистическая методология позволяет определить степень владения тем или иным языком, рассмотреть случаи интерференции и описать первичность или вторичность языковой личности, т.е. выбор одного из языков в качестве доминирующего и родного.
Список литературы Некоторые аспекты изучения билингвизма в социальном и психолингвистическом подходах (на примере русско-финского двуязычия)
- Верещагин Е.М. Психолингвистическая и методическая трактовка двуязычия (билингвизма). М., МГУ. 1969. 160 с.
- Верч Дж. Голос разума. Социокультурный подход к опосредованному действию. Учеб. пособие для высшей школы. М., 1996. 136 с.
- Горелов И.Н. Социопсихолингвистика и проблемы управления обществом//Философия языка и семиотика. Иваново, 1995. С. 137-149.
- Губогло М.Н. Историографические проблемы двуязычия//Основные направления изучения национальных отношений в СССР (коллективная монография)/под ред. М.И. Нумиченко. М., Наука, 1979. С. 160-165.
- Залевская А.А. Вопросы теории двуязычия: монография. Тверь: Твер. гос.ун-т, 2009. 144 с.
- Ибрагимов Г.К., Зачесов К.Я. О понятии «родной язык»//Русский язык в национальной школе. М., 1990. № 8. С. 8-11.
- Ковалева С.С. Билингвизм как социально-коммуникативный процесс: автореф. дис.... канд. социол. наук. М., 2006. 25 с.
- Костомаров В.Г. Ещё раз о понятии «родной язык»//Костомаров В.Г. Статьи старых лет. М.: Издательство ИКАР, 2010. С. 492-500.
- Майоров А.П. Социальный билингвизм и языковое пространство. Уфа, БТУ. 1998. 159 с.
- Монтень М. Опыты. Избранные произведения в 3-х т. T. I. Пер. с фр. Кудрявцев Г.Г. М., Голос. 1992. 384 c.
- Сорокин Ю.А. В чем же суть понятия «родной язык»?//Русский язык в национальной школе. М., 1990. № 9. С. 9-11.
- Haugen Е. The ecology of language: Essays by E. Haugen/E. Haugen/Stanford, CA: Stanford University Press/Originally published in W. Bright (Ed.).1966. P. 159-190.
- Zimmer D. Deutsch und unders Die Sprache im Modernisierungstiebr. Rowohlt Verlag Gmbh, 1997. 217 p.