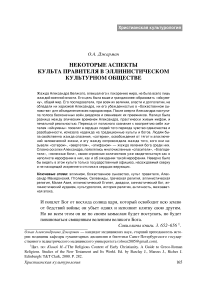Некоторые аспекты культа правителя в эллинистическом культурном обществе
Автор: Джарман Ольга Александровна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Христианская культурология
Статья в выпуске: 3 (50), 2013 года.
Бесплатный доступ
Жажда Александра Великого, влекшая его к покорению мира, не была всего лишь жаждой военной власти. Его цель была выше и грандиознее: образовать «ойкумену», общий мир. Его последователи, при всем их величии, власти и долголетии, не обладали ни харизмой Александра, ни его убежденностью в «божественном сыновстве» для объединения всех народов мира. После смерти Александра наступила полоса бесконечных войн диадохов и сменивших их преемников. Налицо была разница между эпическим временем Александра, практически живым мифом, и печальной реальностью. Переход от полисного сознания к восприятию себя жителем «ойкумены» поселил в сердцах людей того периода чувство одиночества и разобщенности, исчезала надежда на традиционные культы и богов. Людям была свойственна жажда спасения, «сотерии», освобождения от тягот и злоключений человеческой жизни, и эту жажду сопровождала жажда того, кого они называли «сотером», «эвергетом», «эпифаном» — жажда явления бога среди них. Словно осколки Александра, появлялись многочисленные «спасители», «благодетели», «явленные боги», своим огромным количеством уже свидетельствуя как о неполноте иерофании в них, как и об ожидании такой иерофании. Неверно было бы видеть в этом культе только государственный официоз, насаждаемый сверху и не находящий искреннего отклика в сердцах верующих.
Эллинизм, божественное сыновство, культ правителя, александр македонский, птолемеи, селевкиды, греческая религия, эллинистическая религия, малая азия, эллинистический египет, диадохи, синнаотический бог, эллинистический иудаизм, культурология, история религии, античность, межзаветная эпоха
Короткий адрес: https://sciup.org/140190004
IDR: 140190004
Текст научной статьи Некоторые аспекты культа правителя в эллинистическом культурном обществе
И пошлет Бог от восхода солнца царя, который освободит всю землю от бедствий войны; он убьет одних и исполнит клятву свою другим. Но во всем этом он не по своим замыслам будет поступать, но будет повиноваться священным велениям великого Бога.
Сивиллины книги. 3. 652–656 1 .
— Кому ты оставляешь царство?
— Лучшему.
Александр Македонский 2 .
Термин «эллинистический» относится обычно к периоду от 331 г. до Р.Х., когда Александр Македонский покорил персидское царство Дария, до 31 г. до Р.Х. — победе войск Октавиана при Акциуме над войсками Антония и Клео-патры 3 .
В этой связи представляется весьма важным рассмотреть истоки феномена культа эллинистического правителя в Малой Азии (а также и его последующее развитие в культе римского императора в малоазийских провинциях Рима 4 ). Греция (римская провинция Ахайя) из-за тесной исторической, религиозной и культурной связи с Малой Азией также рассматривается в данной статье. При обсуждении феномена Александра Великого, как и культа династии Птолемеев, в силу необходимости, затрагиваются особенности этого типа религиозности в эллинистическом Египте.
Следует отметить тот факт, что именно в Малой Азии, в Палестине, прозвучала проповедь пророков, именно здесь был провозглашен идеал царя-Мессии. Кроме того, мессианские надежды избранного народа связывались с чужеземными царями — самый известный пример — персидский царь Кир, 5 второй, менее известный, но не менее значительный, связан с эллинистической династией Птолемеев, напомнивших послепленным иудеям образ Кира 6 .
Достойно внимания и то, что один из иконографических типов Христа, доминировавших в византийском искусстве — «Пантократор», является так называемый «царским» типом. Это именно изображение Христа как правителя, царя, императора. Святые, в том числе и мученики, отказавшиеся в свое время приносить жертву языческому правителю, изображены предстоящими Христу в позах, соответствующих византийскому придворному церемониалу. Таким образом, культ правителя как таковой, более сложный феномен, касающийся глубоких архетипических представлений людей, и по-разному трансформирующийся в различных культурных условиях.
Лисандр: самый ранний случай воздавания божественных почестей человеку
В греческом мире божественные почести часто воздавались жителями городов их основателям, считавшимся покровителями и защитниками 7 . Внутренние кризисы приводили к тому, что божественные почести воздавались освободителям или «спасителям» (сотерам) даже при жизни 8 . Впервые греки-ионийцы оказали божественные почести Лисандру ( Плутарх. Лисандр. 18.3 и далее), разбившему афинян в 405 г. до Р.Х. при Эгоспотаме 9 . Ионийцы даже изменили традиционный праздник в честь свой богини-покровительницы Геры — «Гереи» (Ἡραία) на «праздник Лисандра» — «Лисандрии» (Λυσάνδρεια). Это произошло в 404 г. до Р.Х. 10 «…ему первому среди греков города стали воздвигать алтари и приносить жертвы как богу, и он был первым, в честь кого стали петь пэаны. Начало одного из них таково:
Сына спартанских равнин, Эллады прекрасной вождя, Мы песней прославим своей — Ио, Пэан!» 11
Итак, честолюбивому спартанскому полководцу времен Пелопоннесской войны, Лисандру 12 , несмотря на его жестокость и неразборчивость в выборе политических средств, были возданы божественные почести — впервые за всю историю Эллады, воздвигнуты алтари, принесены жертвы и священные песнопения. До этого воздвигали алтари, приносили жертвы и пели пэаны только олимпийским божествам.
Установление этого культа связано со следующими политическими событиями. В конце Пелопоннесской войны, Лисандр, военачальник спартанцев, одержал несколько важных побед над Афинами и ликвидировал Афинский морской союз. Он также атаковал о. Самос, изгнал оттуда коалицию, поддерживающую Афины, и вернул представителей правившей олигархии, которые были отправлены в изгнание. Эти люди и установили его культ как выражение личной благодарности: они были до этого беженцами, а теперь вернулись на родину как свободные в свои имения13.
Итак, среди отчаяния, охватившего людей в период Пелопоннесской войны, жители о. Самос получили неожиданное избавление, вопреки судьбе и не от богов-олимпийцев, аот военачальника, который стал для них равным, и даже выше олимпийцев. Помощь и спасение — основные действия, которые ожидаются от божества. Человек, который совершает их, сам является манифестацией бо-жественного 14 . То есть, по М. Элиаде, в нем для окружающих осуществляется иерофания 15 .
Этот неожиданный поворот в судьбах большого числа людей может объяснить и установление культа, и его ограниченность только одним островом, где он отправлялся только в определенное время года. Иными словами, Лисандру молились только во время Лисандрий.
Лисандр не был единственным человеком, которому воздавали подобные почести до Александра Македонского. Собственно, в современной литературе предшественниками культа правителя считаются Лисандр, Аминта III, Филипп II 16 .
Кризис религии олимпийцев, заключавшийся в требовании человеческой душой близкого общения с божеством, находил себе выход в обожествлении военачальников, спасителей от раздоров и войн, устанавливающих мир. Знаменательно, что им пелись пэаны — гимны, изначально посвященные богу-целителю Пеану, отождествляемому с Аполлоном или его сыном Асклепием 17 .
Происхождение культа правителя в Греции, тем не менее, считается исследователями одной из самых загадочных и спорных проблем греческой рели- гии 18 .
Божественная сила проявлялась в философах, поэтах, ясновидцах, врачах и чудотворцах (Эмпедокл — яркий тому пример, 485–425 г. до Р.Х.). Он писал о себе: «Я путешествую, подобно бессмертному богу, более не из числа смертных, и всякий воздает мне почести, как мне и подобает»19. Однако почести, которые ему воздавались, не включали в себя жертвоприношения, статуи, состязания атлетов, т.е. иными словами, не были теми почестями, которые воздавались олимпийским богам.
Греки представляли богов-олимпийцев как людей, действующих по тем же мотивам, что и люди — гневу, зависти, ревности. Эта тема получила своеобразное развитие в труде, получившем название «Священный список» или «Священная запись» (ἱερά ἀναγραφή) античного писателя Эвгемера из Мессены (340–260 г. до Р.Х.), который, описал свое вымышленное путешествие на остров Панхею в Индийском океане. Там он якобы обнаружил золотую колонну с надписями, свидетельствующими о том, что Уран, Крон и Зевс были знаменитыми царями далекого прошлого, за свои дела почитавшиеся как боги. Обычно это считается критикой традиционной греческой религии, но возможно и другое объяснение. Эвгемер был придворным философом царя Кассандра с 311 по 298 гг. до Р.Х., и его труд был посвящен тому, что царь может претендовать на божественность, если его деяния того заслуживают 20 .
С другой стороны, пропасть между богами и людьми не была непреодолимой. После смерти некоторые из людей могли быть провозглашены героями (т.е. полубогами), более того «даймонами» (δαίμων) и в конечном итоге, богами. Греческая религия знает несколько богов — Асклепия, Геракла, Диониса — которые достигли Олимпа посмертно.
Помимо богов, существовало множество привилегированных умерших людей — героев, которые могли оказывать помощь на войне (Тезей) или исцелять (Трофоний, Амфиарай), за что получали поклонение от благодарных или (и) испуганных смертных21. Герой — это человек, совершивший выдающиеся поступки в земной жизни, и, как верили, обладающий определенной силой и властью даже после смерти. Центром культа была могила героя, или просто его останки. Плутарх рассказывает о том, как афиняне получили помощь от Тезея, легендарного основателя афинской демократии, и перенесения его останков с последующим торжественным погребением в Афинах22. Человек, основавший колонию, практически всегда после смерти провозглашался героем. Законодатели, выдающиеся атлеты23 и тиранокласты (тираноубийцы) тоже могли быть провозглашены героями. Кроме того, погибшие в войне могли почитаться как герои, так сказать, «коллективно»24. Культ героев имел черты как культа олимпийских богов, так и культа мертвых: жертвоприношения совершались на могиле. Животное, обычно черной масти, закалывалось на могиле героя, и кровь его стекала внутрь ее по особому желобу. Остатки жертвы сжигались — в отличие от обычного жертвоприношения, в котором жертва предназначалась для совместной трапезы.
Культ правителей, во внешних формах, более схож с культом богов-олимпийцев, чем с культом героев. Кроме того, культ героев всегда был посмертным.
Помимо культа героев, существовал культ эвергетов — «благодетелей», которых также называли «спасителями» («сотерами»). В отличие от героя, эвер-гет получал почести при жизни (хотя герой тоже мог называться «эвергетом» и «сотером»). Аристотель пишет в «Риторике»:
«Принадлежность почета составляют жертвоприношения, прославления в стихах и прозе, почетные дары, участки священной земли, первые места, похороны, статуи, содержание за счет государства; у варваров признаками почтения служит падение ниц, уступка места, дары, считающиеся у данного народа почетными» 25 .
Он указывает, что жертвы приносятся не благодетелям, а за них. Проски-несис (поклонение с падением ниц) и экстасис (экстатические возгласы) 26 , как и воздвижение статуи на могиле происходило после смерти эвергета.
Следует различать культ правителя и культ эвергета. Вполне вероятно, что варварские обычаи проскинезы перед живым правителем не были чужды и самим грекам 27 .
Культ героев и эвергетов частично объясняет обожествление правителя. Однако следует подчеркнуть, что обожествление людей (в частности, правите- лей) началось в переходный этап — последнюю треть последнего тысячелетия до Р.Х., в промежутке примерно от 400 г. до Р.Х. до 300 г. до Р.Х. Это был период серьезных социальных потрясений. Города-государства (греческие полисы) более не ощущались их жителями как самодостаточные единицы, как единое целое. Люди искали помощи извне, помощь и избавление приходили из-за пределов полиса, от тех людей — как правило, военачальников, — которые не были членами полиса, но стояли над полисом. До этого над полисом стояли только боги. Богов и военачальников роднило то, что и те, и другие были облечены властью28.
Культ божественного правителя часто рассматривают как деградацию греческого народа и греческой религии, но правильнее в этом видеть искреннее выражение благодарности, трепета и поклонения перед новой силой, начавшей оказывать влияние на жизнь простого человека. Эта сила давало то, о чем обычно просили у богов — защиту от нападения врагов, экономическое процветание, пищу и личную защищенность 29 .
Александр Великий
Все, совсем как Александру, удается мне. Когда отыскать хочу кого-то, сразу он найдется сам. Если надо мне за море, я и по морю пройду.
Менандр 30 .
Имя Александра означает конец одной мировой эпохи и начало другой.
U. Wilcken 31 .
Культ Александра32 Македонского или Великого33 (Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας) стоит особняком среди культа правителей, как бывших до него, так и последующих эллинистических царей — как по своим особенностям, так и по уникальной исторической ситуации, созданной самим Александром — столь ярка была его личность. Поэтому современные историки предпочитают рассматривать его культ отдельно от культа диадохов и их наследников34.
Александр (356–323 гг. до Р.Х.), 35 начавший свои победоносные завоевания, будучи двадцати лет, покоривший непобедимую Персию, дошедший до Инда, оказал огромное влияние на умы современников и последующих поколений. Он стал легендой еще при жизни, а его ранняя и загадочная смерть ускорила мифологизацию его образа.
Плутарх составил жизнеописание Александра на рубеже I и II в. по Р.Х. (около 100 г. по Р.Х.). Это свидетельствует о том, какой значимой оставалась фигура Александра Великого спустя несколько столетий после его смерти. 36
Плутарх, в частности, приводит легенды, связанные с рождением и детством Александра:
Происхождение Александра не вызывает никаких споров: со стороны отца он вел свой род от Геракла через Карана, а со стороны матери — от Эака через Неоптолема. Сообщают, что Филипп был посвящен в Самофракийские таинства одновременно с Олимпиадой, когда он сам был еще отроком, а она девочкой, потерявшей своих родителей. Филипп влюбился в нее и сочетался с ней браком, добившись согласия ее брата Арибба. Накануне той ночи, когда невесту с женихом закрыли в брачном покое, Олимпиаде привиделось, что раздался удар грома и молния ударила ей в чрево, и от этого удара вспыхнул сильный огонь; языки пламени побежали во всех направлениях и затем угасли. Спустя некоторое время после свадьбы Филиппу приснилось, что он запечатал чрево жены: на печати, как ему показалось, был вырезан лев. Все предсказатели истолковывали этот сон в том смысле, что Филиппу следует строже охранять свои супружеские права, но Аристандр из Тельмесса сказал, что Олимпиада беременна, ибо ничего пустого не запечатывают, и что бере- менна она сыном, который будет обладать отважным, львиным ха-рактером37.
Видение змеи рядом с Олимпиадой, своей женой, вызвало в душе царя Филиппа противоречивые чувства:
Однажды увидели также змея, который лежал, вытянувшись вдоль тела спящей Олимпиады; говорят, что это больше, чем что-либо другое, охладило влечение и любовь Филиппа к жене, и он стал реже проводить с нею ночи — то ли потому, что боялся, как бы женщина его не околдовала или же не опоила, то ли считая, что она связана с высшим существом, и потому избегая близости с ней 38 .
Он подозревал жену в волшебстве и перестал посещать ее, боясь быть отравленным, однако послал гонцов в Дельфы просить разъяснения. Ему было велено оракулом принести жертву Аммону, египетскому богу, которого греки отождествляли с Зевсом.
Есть и другая история, о том, что Филипп видел, как бог в виде змеи совокуплялся с его женой, и потерял один глаз, так как смотрел из-за полузакрытой двери. Олимпиада же рассказала Александру о тайне его рождения 39 . Подобная история существует о египетском фараоне и жреце Нектанебе 40 , бежавшем в Македонию и принявшем вид бога Аммона при зачатии Александра 41 .
Змея являлась символом божества (например, иерофанией Асклепия) у греков, но еще более это относилось к египетским божествам — бог часто являлся в образе змеи 42 .
Собственно, будущий фараон зачинался богом Ра — однако не так, как в случае с Олимпиадой и Филиппом, а приняв образ мужа царицы. Так, бог под видом Тутмоса I входит к царице Яхмос, для того, чтобы зачать будущее дитя-фараона, девочку Хатшепсут, как изображено на росписи портика рождения храма в Дейр эль-Бахри43. Изображение крайне целомудренное и романтическое, и весьма отличается от греческой легенды.
При рождении Александра сгорел храм Артемиды в Эфесе, и жрецы в ужасе прорицали, что родился великий завоеватель Азии 44 . Кроме того, говорили, что Артемида сама помогала принимать роды, поэтому и оставила свой храм без надзора.
Филипп получает весть о рождении сына вместе с вестью о двух побе-дах 45 , и это побуждает предсказателей проречь, что мальчик станет непобедимым воином.
Александр принимает послов в отсутствие Филиппа и ведет с ними разумную не по годам беседу, так что приводит их в изумление:
Когда в отсутствие Филиппа в Македонию прибыли послы персидского царя, Александр, не растерявшись, радушно их принял; он настолько покорил послов своей приветливостью и тем, что не задал ни одного детского или малозначительного вопроса, а расспрашивал о протяженности дорог, о способах путешествия в глубь Персии, о самом царе — каков он в борьбе с врагами, а также о том, каковы силы и могущество персов, что они немало удивлялись и пришли к выводу, что прославленные способности Филиппа меркнут перед величием замыслов и стремлений этого мальчика 46 .
В повествовании Плутарха имеются очевидные параллели с повествованием о детстве Иисуса у Луки (чудесное зачатие, знамения при рождении, беседа с мудрецами в храме — см. Лк 1-2 гл). Действительно, в современной библе-истике является общепринятым мнение, что традиция рассказов об Иисусе использует уже существовавшие литературные формы из устоявшегося античного «репертуара», к которому, несомненно, обращался и Лука, и позже Плутарх47. Лука, принадлежащий к античной культуре по языку и образованию, обрисовывает в своем Евангелии образ Иисуса с помощью этой литературной формы, и, тем самым, больше, чем другие евангелисты, подчеркивает исполнение в Иисусе чаяний людей именно из греко-римской, неиудейской среды48.
Античные формы повествования о детстве Александра приобретают характер богословского языка, на котором ученик и спутник апостола Павла будет позже говорить «с эллинами по-эллински» и путем этой смелой инкультурации приобретать эллинов.
Обожествление Александра при жизни
Я сделал всех вас своими родичами!
Александр Македонски й49 .
Историки до сих пор не пришли к единому мнению, был ли Александр, при всей его харизматичности, обожествлен при жизни, и стремился ли он к этому обожествлению сам.
Традиционный взгляд на этот вопрос сводится к следующему 50 : восточные влияния 51 сыграли не последнюю роль в том, что Александр был провозглашен богом. Необходимо отметить и роль народного энтузиазма от побед самого Александра Македонского. Но, однако, Александр сам проявил инициативу и потребовал божественных почестей, требуя верить в то, что он — воплощенный Дионис 52 .
В классическом труде W.W. Tarn, посвященному Александру Македонскому, указывается на отрывок из «Политики» знаменитого греческого философа Аристотеля (384–322 г. до Р.Х.), наставника юного Александра с тринадцати лет 53 . Отрывок гласит:
Если кто-либо один или несколько человек, больше одного, но все-таки не настолько больше, чтобы они могли заполнить собой государство, отличались бы таким избытком добродетели, что добродетель всех остальных и их политические способности не могли бы идти в сравнение с добродетелью и политическими способностями указанного одного или нескольких человек, то таких людей не следует и считать составной частью государства: ведь с ними поступят вопреки справедливости, если предоставят им те же права, что и остальным, раз они в такой степени неравны с этими последними своей добродетелью и политическими способностями. Такой человек был бы все равно что божество среди людей54.
W.W. Tarn считает, что Александр был вдохновлен своим учителем, и применил это выражение к себе 55 .
Другой исследователь этой проблемы, J. Balsdon, считал фразу Аристотеля из «Политики» «слишком шатким основанием для подобных выводов» 56 . Он указывал, что подобным же образом хвалит Приам погибшего Гектора:
«Нет и тебя, мой Гектор, тебя, между смертными бога!
Так, не смертного мужа казался он сыном, но бога!» 57
Это выражение у Аристотеля, как считает J. Balsdon, — не более чем метафора, отсылающая к знакомому каждому греку эпосу Гомера.
Еще один современный исследователь, E. Meyer, 58 , считает, что Александр был вдохновлен идеей божественного правителя, с которой познакомился в Египте. Он считал, что, провозгласив себя божеством, он положит конец распрям и междоусобицам между греческими полисами. Александр, по этой гипотезе, рассматривал себя как божественного правителя, которому воздавали культовые почести во всей огромной созданной им империи люди всех религий.
Исследователь, историк и богослов H.-J. Klauck в своей недавней монографии (опубликованой в 2000 году), посвященной религиозному фону, на котором зародилось христианство, подробно рассматривает этот вопрос, анализируя биографию Александра Македонского по Плутарху, и касаясь трех наиболее спорных исторических пунктов: 1) посещение Александром оракула Амона в оазисе Сива, 2) проскинеза среди греков в отношении Александра, 3) требова ния Александра признания его б огом полисами Греции 59 .
В случае с Александром мы видим новые черты почитания правителя. Инициатива исходит не от подданных, в порыве благодарности приносящих ему божественные почести, а от самого правителя. Уже не отдельный полис, а вся страна приносит жертву благодетелю-эвергету 60 .
Жизнеописание Александра, написанное Плутархом, 61 интересно тем, что сам Плутарх не был восторженным поклонником культа правителя 62 .
-
1) Оракул Амона в оазисе Сива
Если верить античному роману «История Александра Великого» 63 , мифологизированной биографии, написанной под псевдоэпиграфом Каллисфена во II в по Р.Х. или немногим ранее, Александр был венчан на царство в Мемфисе в храме бога Птаха, тем самым взойдя на трон фараонов. Нет сомнений, что он считался египтянами настоящим царем Египта (он получил все царские имена, которые носили до этого египетские фараоны). Он оказывал большое почтение египетским богам 64 .
Александр (ему к тому времени исполнилось 24 года) был принят египтянами, как освободитель от ненавистного персидского ига65, в это время в египетском этносе происходило возрождение национальной идеи, которое связывалось и с именем нового правителя Египта, Александра. Как освободитель и правитель Египта, уже 200 лет томившегося под властью ненавистных египтянам персов, он уже был провозглашен фараоном. В 332 г. до Р.Х., 14 ноября66 в древней столице Египта, Мемфисе, Александр был провозглашен «фараоном» и увенчан двойной короной Верхнего и Нижнего Египта. Он принял этот титул, без сомнения, с радостью, ибо это означало, что для египтян он не предводитель шайки грабителей или храмовых мародеров, а законный правитель. Фараон же был сам божеством и имел совершенно особенный статус — он считался сыном божественного отца, а именно бога Амона-Ра67, «иероглифом» бога68 и богом Гором, спасителем убитого Осириса и, собственно, всех людей. Такое мировоззрение, как считается, сильно повлияло на Александра — в дополнении к собственно греческой традиции обожествления людей (Лисандра и других личностей греками)69.
Необходимо сказать, что Египет всегда считался у греков страной, где люди знают и чтут богов, поэтому религиозный молодой человек, Александр (он выказывал не только интерес, но и подчеркнутое почтение к богам разных народов, регулярно приносил жертвы 70 и совершал богослужения 71 . Он не мог не впечатлиться представлением о фараоне как о божественном царе — спасителе своего народа.
Александр приносил жертвы и продолжил строительство храмовых комплексов в Луксоре и Карнаке. На одной из стен храма в Карнаке Александр изображен в традиционной иконографии как фараон, поклоняющийся Амону. На другом изображении голову Александра венчают рога овна 72 — символ иконографии Амона. В картуше, где имя Александра написано иероглифически, его титулы звучат так: «Гор, правитель сильный, покоряющий чужие страны, возлюбленный бога Амона и избранный бога Ра («Meryamun Setenpenra») Алек-сандр» 73 . В храме Хнума в Элефантине изображен подросток Александр IV, с той же иконографией, как и его великий отец 74 .
Исторически достоверно доказано, что Александр посетил храм Амуна (т.н. у греков Аммона Ливийского) в 331 г. до Р.Х. Выбор именно этого ора- кула объясняется тем, что он был единственным египетским оракулом, широко известным в греческом мире, и пользовался чрезвычайным уважением75.
Александр был «охвачен желанием» 76 отправиться к оракулу Аполлона в оазисе Сива в самом сердце Киренской пустыни. Когда он прибыл, жрец приветствовал его как «сына Аммона» и пообещал ему власть над миром. Все это было традиционным приветствием, с которым жрец обращался к фараонам 77 . Но для Александра и сопровождающих его греков такие речи были отнюдь не привычны и произвели на них глубочайшее впечатление. Плутарх передает эти события следующим образом:
Некоторые сообщают, что жрец, желая дружески приветствовать Александра, обратился к нему по-гречески: «О пайдион!» («О, дитя!»), но из-за своего варварского произношения выговорил «с» вместо «н», так что получилось «О пайдиос!» («О, сын Зевса!») 78 . Александру пришлась по душе эта оговорка, а отсюда ведет начало рассказ о том, что бог назвал его сыном Зевса 79 .
Искал ли Александр, посещая оракул Аммона в оазисе Сива, подтверждения своего богосыновства, искал ли своего «настоящего отца» — вспоминая рассказ Олимпиады 80 ? Скорее всего, Александр хотел узнать свое будущее из надежного источника, считает H.-J. Klauck. Только после этого он принимает другой статус, более понятный его греческим соплеменникам 81 . Для них было важно, что одним из титулов фараона, которым теперь стал Александр, был титул «сын Аммона-Ра», божества, которого греки ассоциировали с Зевсом 82 . Исследователи часто считают это видом пропаганды Александром своей боже-ственности 83 . Однако только к пропаганде это событие свести нельзя.
-
2) Проскинеза
Персы встречали Александра поклонами или, по-гречески, проскинезой (προσκύνησις — падение ниц перед царем по персидскому придворному обычаю). Этот акт почтения был совершенно естественным явлением в Персии, но для греческого менталитета поклон одного свободного человека перед другим был чем-то постыдным — греки совершали проскинезу только перед божеством (например, статуей бога). Персы поклонялись царю, но не как богу (в отличие от Египта). Поклонение несло социально-политический, а не религиозный ха-рактер 84 . Македонцы же в свою очередь, никогда не соотносили проскинезу с приветствием любого смертного 85 .
L.R. Taylor, знаток античности начала XX в., знаменитая своими работами в области культа правителя, указывает, что в персидской религии существовало понятие фраваши (fravashi) — духа-хранителя человека 86 (в том числе, конечно же, и царя) который существовал до рождения человека, сопровождал его во время земной жизни и не умирал со смертью своего «подопечного». Именно фраваши поклонялись персы, совершая простирание ниц перед своим царем 87 .
В результате среди македонского и персидского окружения Александра произошел острый конфликт культур.
Известный историк эллинизма Дройзен И.Г. передает ряд событий, связанных с установлением культа правителя в греческой среде, окружавшей Александра. Греки считали культ правителя чем-то варварским, недостойным свободного человека, и порой молчаливо игнорировали попытки друзей Александра вводить это новшество.
Так, повествует Дройзен, в свите царя был некий олинфянин Каллисфен, ученик и племянник Аристотеля, пришел, как говорил, не для того, чтобы прославиться, но для того, чтобы прославить Александра. Он написал исторический труд, сохранившийся в отрывках. При походе вдоль берега Памфилии он гово- рит, что волны моря улеглись как бы для того, чтобы принести проскинезис — поклонение своему царю. Перед битвой в Гавгамеле он говорил, что Александр воздел руки к небу и воскликнул, что если он — сын Зевса, то да помогут ему боги и решат дело в пользу эллинов88.
Восточное поклонение начали вводить Гефестион и другие друзья царя. Царь взял золотую чашу и обратился к гостям, по предварительной договоренности, с тостом. Каждый затем выпивал чашу, вставал, кланялся перед алтарем царю в ноги и получал поцелуй от царя. Плутарх подчеркивает, что поклонение было самому Александру. Каллисфен отказывается, и Плутарх хвалит его за это 89 .
Однако, как считают современные исследователи, алтарь был воздвигнут не Александру, а Ἀγαθός Δαίμων, божеству-покровителю пиров 90 . Это соответствовало почитанию персидского fravashi 91 .
Когда очередь дошла до Каллисфена, (который до этого неоднократно вступал в конфликт с царем, в частности, сказав в похвальном слове македонянам, что раздоры греков создали могущество Филиппа и Александра: во время смут иногда и жалкая личность может достигнуть почетного положения) то царь обратился с тостом к нему, а сам продолжал разговаривать с сидевшим рядом с ним Гефестионом. Каллисфен подошел к царю, намереваясь поцеловать его без поклонения, и Александр встал, делая вид, что не замечает этого, но кто-то из товарищей сказал: «Не целуй его, о царь, он единственный не молился за твою особу» (т.е все имело вид молитвы за царя, а не поклонения — О.Дж. ). Александр не поцеловал его. Каллисфен вернулся на свое место и сказал: «Итак, я ухожу одним поцелуем беднее». Потом, однако, он совершал проскинезу 92 .
Возможно, Александр хотел унифицировать персидский придворный ритуал, так как простирание ниц перед царем было глубоко укоренено в сознании его персидских подданных (вспомним, что на упрек — «Ты сделал персов своими родичами!» Александр отвечал: «Я сделал всех вас своими родичами!» 93 ). Но он недооценил свое греческое окружение.
Тем не менее, среди греков, спутников Александра, снова утверждалось мнение, что для покоренных народов Александр – более чем простой смерт-ный 94 .
-
3) Обожествление в последние годы жизни
Говорят также, что Александр слушал в Египте Псаммона; из всего сказанного философом ему больше всего понравилась мысль о том, что всеми людьми управляет бог. Ибо руководящее начало в каждом человеке — божественного происхождения. Сам Александр по этому поводу судил еще более мудро и говорил, что бог — это общий отец всех людей, но что он особо приближает к себе лучших из них 95 .
Считается, что в 324 г. до Р.Х. Александр разослал в греческие города свое требование признать его богом. Также он потребовал прислать из греческих городов к нему так называемых theōroi, то есть послов от города в святилище какого-либо божества по случаю праздника или для получения оракула 96 .
Обычно это расценивают как ловкий политический ход. В то время в Греции существовало огромное количество изгнанников из своих родных городов, мечтавших вернуться на родину, и Александр хотел принудить города принять изгнанников назад. Однако он не имел права вмешиваться во внутренние дела греческих полисов. Теоретически он был всего лишь полководец союзных армий городов, добровольно в этот союз вступивших. Но, будучи божеством, он уже не был связан какими бы то ни было договорами.
Другое мнение заключается в том, что здесь на первое место выступала любовь Александра к драматическим, шокирующим поступкам. Возможно, дело было именно в титуле — то есть, в решении вопроса о титулатуре Александра. Почтить кого-то именем бога для греков не было чем-то таким уж из ряда вон выходящим — боги были высшие по рангу, но не такими уж иными по природе. Обратим внимание, что он не требовал храма — культ ему был не нужен (однако в некоторых местах совершался) 97 .
Действительно, почитание Александра уже наверняка существовало в греческих городах Малой Азии. Не следует думать, что это было посмертное почитание как героя. Эти культы появились, когда Александр был еще жив, еще более точно во время кампании в Малой Азии в 334–333 гг. до Р.Х., во время которой он избавил греков от ненавистного персидского ига. Почести, которые он получил в знак благодарности за свои дела, не выходили за рамки культа благодетелей (эвергетов, см выше). Некоторые из этих культов существовали очень долго, уже в римский период98. Есть свидетельство тому, что храм Александра со жрецом и отправляемым культом существовал в Эфесе даже в 102–116 гг. по Р.Х.99 Эритрейцы, освобожденные Александром от персов, совершали его культ даже в римскую эпоху100.
Иное дело — греческие полисы. Исторически достоверно, что в 324 г. до Р.Х. имела место дискуссия между Афинами и Спартой, о том, должен ли быть Александр провозглашен богом. Следствием этой дискуссии явилось греческое посольство, прибывшее в Вавилон к Александру, с желанием предложить ему божественные почести 101 .
Некоторые ученые 102 считают, что когда на Олимпийских играх в 324 г. до Р.Х. был провозглашен указ о возвращении политических изгнанников, Александр использовал этот момент для того, чтобы потребовать свое обожествление, для того, чтобы оппозиция была бессильна перед ним в такой торжественный момент. У нас нет источников, подтвержающих его требование на Играх, поэтому даже сам этот эпизод ставится под вопрос 103 . Существует серьезная гипотеза, связывающая требование божественных почестей Александра с трагедией, его постигшей: смертью его лучшего друга Гефестиона (Ἡφαιστίνων).
Смерть и героизация Гефестиона
Гефестион был словно alter ego Александра. Диодор Сицилийский передает слова Александра о друге: «Он ведь тоже Александр»104. Видимо, для окружения и для самих друзей Александр и Гефестион были подобны двум Диоскурам, при этом один из них, Александр, имел божественное происхождение, а Гефестион земное, что также согласовывалось с мифическим прототипом.
Когда Гефестион умер от лихорадки в Экбатанах, горе и отчаяние Александра не знало границ 105 . От оракула в Аммоне посланцы Александра принесли ответ, что Гефестион должен быть почтен как герой 106 и ему должны быть принесены жертвы.
Немецкий ученый C. Habicht отмечает, что безо всякой связи с политическими изгнанниками, Александр потребовал греческие города провозгласить его друга Гефестиона героем, с титулом πάρεδρος, т.е. «делящий с ним (Александром) трон, но ниже его по достоинству» 107 . Тем самым Александр намекал, что в паре друзей он выше (Александр, как сын Зевса, был из двух друзей-Диоскуров выше — О.Дж. ) и поэтому ему должны быть оказаны высшие почести — и догадливые греки незамедлительно поняли намек. После некоторого колебания, города последовали столь прикровенно выраженному желанию Александра.
Помимо явной параллели с Диоскурами, когда бессмертный брат переживает и оплакивает смертного, здесь есть моменты, перекликающиеся с историей Гильгамеша и его лучшего друга Энкиду. Нельзя исключить, что Александр познакомился в Вавилоне с этим древним шумеро-вавилонским эпосом. Если же расценивать эту ситуацию как типологическую, то она весьма сходна — один из побратимов гибнет, другой безутешно его оплакивает (Гильгамеш не позволял долго хоронить Энкиду, пытаясь своим плачем пробудить его к жизни), и, наконец, понимает, что та же участь суждена ему самому. В своих исканиях победы над смертью Гильгамеш не обретает и его охватывает отчаяние 108 .
Иначе поступает Александр, сын Зевса-Аммона, египетский Гор-спаситель: он желает победить и смерть, отсюда и героизация Гефестиона, «нового Энкиду», и заявление о своем вызове смерти — провозглашение божественности. Великий воин желает вступить в поединок с «последним врагом».
Возвращаясь к теме Диоскуров, вспомним, что божественный брат делится бессмертием с братом смертным, и тем спасает его от смерти. В этом контексте примечателен возглас Александра, в котором слышится упрек непонимающим его миссию македонским солдатам: «Я сделал всех вас своими родичами!»
Однако C. Habicht внес исправления во второе издание своей монографии. Он указал, что πάρεδρος означает просто «помощник» или «покровитель» и не может нести такое значение, как было указано выше 109 . Он пишет, что «остается открытым вопрос, каким образом Александр потребовал себе почестей от греческих городов» 110 . Habicht настаивает, что это требование имело место, но мотивация была не просто политическая. Осознание Александром того, что он выполнил сверхчеловеческую задачу и стал главой огромного царства, благодарственные почести как благодетелю-эвергету, которые он неоднократно получал, наряду с героизацией Гефестиона и приветствие от жреца Аммона — все это повлияло на самовосприятие Александра.
Мы не знаем, как развивалась бы ситуация дальше, не умри Александр через год и всякие спекуляции на этот счет не имеют большого смысла.
Божественность и культ Александра Великого, а именно, точная дата его введения, (ок. 332 г. до Р.Х., 327 г. до Р.Х. или позже), роль оракула Амона в оазисе Сива, инициатива полисов в установлении культа, собственное понимание Александром своей божественности и родства с Зевсом — все это до сих пор предмет споров, причем высказываются мнения прямо противоположные. Например, слова Александра о крови, а не ихоре, вытекающим из его жил при ранении, некоторые исследователи считают словами самого Александра, некоторые — одному из его друзей, иногда — как ирония — или самоирония, иногда — как лесть 111 .
Следует различать божественные почести, полученные Александром:
-
1. претензии Александра на божественные почести как некий статус;
-
2. те почести, которые он получил, как основатель Александрии: в греческом мире традиционным было почитать основателя города как героя;
-
3. божественные почести в рамках собственного культа, которые он добровольно принимал в тех или иных городах 112 .
Надо заметить, что перед варварами Александр вел себя, как полностью божественный, перед своими, греками — скромнее 113 .
«Вообще Александр держал себя по отношению к варварам очень гордо — так, словно был совершенно убежден, что он происходит от богов и сын бога; с греками же он вел себя сдержаннее и менее настойчиво требовал, чтобы его признавали богом. Правда, в письме к афинянам по поводу Самоса он пишет: «Я бы не отдал вам этот свободный и прославленный город, но уж владейте им, раз вы получили его от того, кто был тогда вашим властелином и назывался моим отцом». При этом он имел в виду Филиппа. Позднее, однако, раненный стрелой и испытывая жестокие страдания, Александр сказал: «Это, друзья, течет кровь, а не Влага 114 , какая струится у жителей неба счастливых!» 115 .
Плутарх до составления «Жизнеописания» уже писал об Александре в двух своих речах «О судьбе и доблести Александра». Он произнес эти вдохновенные речи, будучи сам еще молодым и видя в великом полководце образец философа «в действии»116. Когда он работал над «Жизнеописанием», то оставил эту тему, как указывал Tarn, связывая это «с разочарованием человека средних лет, хорошо знающего жизнь»117. Философия в действии, «наша философия» стала позже символом христианской жизни у Каппадокийцев, особенно у Григория Богослова. Он распространяет ее не только на мужчин, но и на женщин, в частности, на свою сестру Горгонию118. Еще раньше Тертуллиан говорит об ополчении Христовом, в которое может вступить и слабый, и увечный, и ребенок, и женщина119.
Плутарх указывает на сомнения в божественности Александра, возникавшие у людей из-за его тяжелой военной жизни, но в этом, по Плутарху, глубоко религиозному человеку, и проявляется божественность великого полководца:
Странным покажется то, что я скажу, но я скажу правду: Судьба почти подорвала доверие к происхождению Александра от Аммона. Действительно, кто, рожденный богом, вынес такие опасные, многотрудные и тягостные испытания, кто, кроме Геракла, Зевсова сына? Но Геракла какой-то наглый царь понуждал охотиться на львов, преследовать вепрей, отпугивать птиц, чтобы не оставить ему времени для более важных дел — в своих странствиях наказывать Антеев, усмирять запятнанных убийствами Бусирисов; Александру же сама Доблесть поручила царственное и божественное испытание, целью которого было не золото, навьюченное на десять тысяч верблюдов, не мидийская роскошь, пиршества и женщины, не халибонское вино и не гирканские рыбы, а решение великой задачи — дать всем людям единый государственный строй, подчинить их единому начальствованию, приучить к единому жизненному укладу. Эта страсть была у Александра прирожденной и возрастала вместе с ним 120 .
Плутарх перечисляет раны Александра, несмотря на которые он стремился к исполнению ощущаемой им божественной миссии:
При Гранике его шлем был разрублен мечом, проникшим до волос… под Иссом — мечом в бедро…под Газой он был ранен дротиком в плечо, под Маракандой— стрелой в голень так, что расколотая кость выступила из раны; в Гиркании — камнем в затылок, после чего ухудшилось зрение и в течение нескольких дней он оставался под угрозой слепоты; в области ассаканов — индийским копьём в лодыжку…В области маллов стрела длиною в два локтя, пробив панцирь, ранила его в грудь; там же…ему нанесли удар булавой по шее
Плутарх хвалит Александра за его «немощи», в которых проявляется его сила, и которые являются свидетельствами его высокого предназначения. Описывая внешность Александра, Плутарх говорит о приятном запахе euoodia, термин, который применялся при теофаниях богов: 122
Кожа Александра очень приятно пахла, а изо рта и от всего тела исходило благоухание, которое передавалось его одежде 123 .
Плутарх передает и истории чудотворения, связанные с именем Александра:
Недалеко от города Ксанфа, в Ликии, есть источник, который, говорят, как раз в это время без всякой видимой причины пришел в волнение, разлился и вынес из глубины медную таблицу со следами древних письмен. Там было начертано, что персидскому государству придет конец и что оно будет разрушено греками. Вдохновленный этим предсказанием, Александр поспешил освободить от персов приморские области вплоть до Финикии и Киликии. Быстрое продвижение македонян через Памфилию дало многим историкам живописный материал для вымыслов и преувеличений. Как они рассказывают, море, по божественному изволению, отступило перед Александром, хотя обычно оно стремительно катило свои волны на берег, лишь изредка оставляя обнаженными небольшие утесы у подножья крутой, изрезанной ущельями горной цепи 124 .
Отношение к божественности Александра было неоднозначное. До нас дошла через Диогена Лаэртского знаменитая фраза Диогена-киника из Синопы: — «Если вы провозгласили Александра Дионисом, тогда назначьте меня Сераписом!». Однако этот случай, как считал один из крупнейших исследователей культа античных правителей в XX веке A.D. Nock, не может иметь под собой исторических оснований, так как Диоген-философ не был современником Александра, завоевавшего ойкумену, равно как и Серапис, чей культ был введен только Птолемеем, был неизвестен грекам в то время125. Итальянский исследователь R. Pettazoni оригинально решил загадку. Богом Синопы был впоследствии действительно Серапис. Но вопрос, тем не менее, до какой-то степени остается открытым. Что касается Диогена, то это история, характерно противопоставляющая истинного киника, который был богом как философ, мирской славе и силе Александра, и сочинена уже в Египте (так как здесь фигурирует Серапис, и, кроме того, в Египте при Птолемеях процветал культ умершего Александра как бога) «к вящей славе Диогеновой»126.
Другая реакция была в знаменитой Спарте. Спартанцы, получив требование прославленного полководца, традиционно кратко ответили: «если Александр желает быть богом, то да будет он богом» 127 .
В Афинах произошел следующий казус: возглавляющий промакедонскую партию Демад внес предложение в народное собрание о том, что Александра следует почтить как бога 128 , а молодой Пифея ему ответил: противно законам Солона чтить других богов, кроме отечественных. Ему указали на его молодость, но он ответил, что Александр еще моложе 129 . Ликург-афинянин тоже выступил и сказал — какой это бог, покидая святилище которого, необходимо очищать себя. Однако именно предложение Демада, что Александр должен был почтен как Дионис, было принято народным собранием Афин 130 .
Действительно, дионисические черты Александра для его окружения были несомненны. Имя Диониса для прошедшего Малую Азию и Индию, как казалось, было самым подходящим. Как повествует сказание о Дионисе, он первым, словно предтеча Александра, прошел по Азии и дошел до Индии, основав там город под названием Ниса, и пересек Инд, хотя он считал среди своих покровителей многих героев и богов (Ахилла, Артемиду, Гермеса, Зевса, но особенно подражал Гераклу и Дионису). Кроме того, культ Диониса (как и Геракла) был широко распространен в Македонии. Желание увидеть город и гору Мерос, связанную с историей вынашивания Зевсом Диониса-плода в своем бедре, «овладело Александром». Сопровождавшие Александра воины, уже вкусившие от плодов роскоши после завоевания Персии, шли через Карманию, согласно Плутар-ху131 и Арриану132, семь дней празднуя торжество Вакха, с венками, флейтами и буйством вакханок. Действительно, обстоятельства предполагали избрать уже не скромного и аскетичного воина Геракла133, а безудержного и ликующего Диониса. Надо отметить, что это ликование было после страшного перехода через пустыню Гедрозия, где погибло множество воинов Александра, однако флот, благодаря флотоводцу Неарху, и другая часть армии, оказались чудесно спасены, чего Александр уже и не чаял134. Люди Александра и сам он праздновали избавление от смерти, которую они только что видели лицом к лицу135. Ниса и гора Мерос (в массиве Гиндукуш) также были обретены. Это произвело огромное впечатление на греческое религиозное чувство. Кроме того, недавний переход через пустыню напомнил им историю о страдании от жажды Диониса в африканской пустыне. Итак, они стали живыми участниками величайшей мистерии Диониса, перешедшей из легенд в жизнь каждого из выживших спутников Александра. Они шли с Дионисом и были спасены.
Если культура античная, по слову Ф.Ф. Зелинского, если «Ветхий Завет Европы», то этот смертоносно-живительный переход Гедрозии с Александром-Дионисом во главе — не «Исход» ли ее? Безусловно, для христиан ключевое значение имеет исход Моисея и израильского народа, но события краткой, подобно молнии, жизни Александра из никому неизвестной Македонии, покорившего ойкумену и принесшего мир, заставляют задуматься более глубоко над словами отечественного филолога и историка, «Зевеса в аттическом плаще».
Итак, Александр прошел путем, обратным тому, которым шел Дионис: тот шел с востока через Бактрию на запад, Александр же был Дионис возвращающийся с запада на восток. Это усиливало религиозный энтузиазм — Дионис шел в родные места, в город Ниса, где он был рожден, и который основал!
«Нам трудно понять сакральность такого веселья, — пишет историк религий Мирча Элиаде в своем трехтомном труде, — однако оно было предвкушением загробного блаженства, обещанного инициатам дионисийских мистерий» 136 .
В этой связи надо вспомнить, что «явление» Диониса, бога, рожденного от земной матери и Зевса, происходило, по представлениям греков, периодически. Юный, обновляющий все своею силою бог, приносящий ликование и надежду бессмертия, как верили, являлся на земле с периодичностью в определенное ко- личество лет. Эти чередования эпифаний137 и исчезновений (αφανισμoί) лежат в основе такого религиозного явления, как веры в палингенез — когда старый бог возвращается в обличии нового, что «новый бог» — есть периодически являющийся старый. Эпифания божественного младенца, отрока, юноши Диониса возвещает новую молодость вселенной, космический палингенез138.
Нельзя обойти и влияние египетской традиции. Примечательно, что Александр задержался в Египте дольше, чем в какой либо из покоренных им стран (впрочем, «покоренный» в отношении Египта — не совсем верное слово) — около двух лет, и покинул его в мае 331 г. до Р.Х. для того, чтобы уже никогда в него не вернуться. Александр изучал традиции египтян в Мемфисе 139 , с ним вместе были Гефестион, Кратер и Птолемей 140 . Очевидно, религия египтян открыла ему большие глубины в его религиозных исканиях, чем религия греков. Как человек, одаренный разносторонне, и в том числе — одаренный религиозно, Александр искал смысл своей жизни, место приложения той силы, той выдающейся харизмы, которую он в себе ощущал, и которая была очевидна даже для его врагов.
Созерцательность никогда не была чертой египтян, как утверждает знаменитый немецкий египтолог S. Morenz. Они были людьми действия и боролись со смертью. Это парадоксальное сочетание отразилось во всех областях деятельности египтян. «Самая яркая черта в характере египтянина — это, что он не мог забыть о смерти, даже когда призывал своих товарищей наслаждаться жизнью» 141 .
Египтяне, в первую очередь, были «людьми действия», и не были склонны к философствованию. Однако мемфисские мудрецы могли мыслить и мыслили космогонию, сотворение мира, в высоких абстрактных категориях. Это стало известно в конце XIX века, после находки и расшифровки (в 1901–1902 гг.) так называемого «камня Шабака», относящийся ко времени правления фараона 25 династии Нового Царства по имени Шабака Неферкара (греч. Сабакон). По его повелению трактат был переписан со свитка на базальт. Надпись на камне ча- стично стерта, так как он служил жерновом в арабской деревне. Однако при расшифровке надписи, которая является копией более раннего египетского богословского трактата, в мире египтологов поднялась настоящая буря. Оказывается, еще задолго до того, как у греков появилась концепция «логоса», египтяне были убеждены, что мир сотворен словом бога142. Очевидно, слова греков о том, что они многому научились у египтян, не были лишены основания143.
В так называемом «Мемфисском трактате» речь идет о творческом слове, о том, которое было помыслено в сердце и поведано языком бога 144 . Здесь, уже в начале египетской истории, мы сталкиваемся с наивысшим проявлением египетского метафизического мышления и находим доктрину, приближающуюся не только к греческой, но и к христианской монотеистической теологии Логоса 145 .
Форма богов, как указывает E.Hornung, «скрыта и таинственна», это подчеркивают не только священные тексты египтян, но и художественные священные изображения. Изображения египетских богов — это не «портрет» в собственном смысле этого слова — ни один египтянин не представлял себе, например, Амуна, как мужчину с бараньей головой, а Хатхор — как женщину с головой коровы. Такие изображения по сути своей подобны иероглифам, и являются проявлением «метаязыка» 146 , так как обычный язык людей не в состоянии описать запредельное божество. «Зооморфный тотемизм», выражение, которым было принято характеризовать египетскую религию на заре египтологии под воздействием уже давно оставленной религиоведами теории М. Мюллера, совершенно не относится к религии Египта 147 . Амон с рогами овна, победитель и бог сильный был символом того, что бог побеждает зло, устанавливает на земле «маат» — справедливость, ключевой термин египетского мышления 148 .
Гор (Хор, Horus) — ключевой персонаж так называемого «осирическо-го мифа», истории неправедно убитого и возведенного к жизни Осириса, бога из Девятерицы Гелиопольской космогонии, уже рассматривавшейся выше. Этот миф чрезвычайно гуманистичен149 и привлекает к себе до сих пор, как привлек когда-то древних греков, и в их числе Плутарха, написавшего свой трактат: «Об Исиде и Осирисе».
Нам неизвестен до конца весь контекст осирического мифа, так как, во-первых, египетское религиозное мышление очень динамично и недогматично (достаточно сказать, что тексты пирамид не копировались по одному образцу, а писались заново всякий раз, что свидетельствует о мощном творческом религиозном порыве этих людей) 150 . Однако известно, что Исида спасала Гора, укушенного скорпионом, а также помогла ему избежать яда, внесенного в его тело Сетом при их битве 151 . Итак, Гор победил в поединке Сета, причем оба противника были жестоко изувечены, но око Гора (иными словами, глаз Ра-Атума, Творца), было возвращено Гору, и он был коронован на царство. Тогда Гор совершил свое великое деяние: он спустился в царство мертвых, и «приводит его душу в движение»: 152
«Осирис! Смотри! Осирис! Слушай! Вставай! Живи снова!» «Осирис, ты ушел, но ты вернулся; ты спал, но тебя разбудили; ты умер, но ты живешь сно-ва!» 153 С помощью своего Ока (то есть живительной силы бога творца) Гор оживил своего отца Осириса, который стал правителем мира блаженных мертвых, Гор же стал царствовать на земле. Образом царствования Гора было царствование фараона, «сына Ра».
Соотношение Ра и Осириса, названное E. Hornung «мистическим союзом», звучало как «Ра почивает в Осирисе, Осирис почивает в Ра». Это совершается после того, как в таинственном подземном странствии ночью Ра побеждает всех врагов и в шестой час воскрешает Осириса и мертвых, ассоциируясь с деянием Гора (согласно книге Амдуат) 154 .
Боги и фараон
Царская власть в Египте возникает преимущественно по религиозным соображениям. Царь (фараон — «пер-аа», букв. «великий дом») — был посред- ником богов. «Раннее государство было целиком направлено на идею спасе-ния155…являясь, по представлениям древних, ритуальным богом, царь в себе, в своей плоти, спасал своих верных подданных156. Те, кто были верны царю, воплощенному ритуальному божеству, вместе с ним шли в вечность. Царь являлся спасителем своих людей. В природе царя древние видели соединение двух начал — чисто человеческого, подобного всем остальным людям, и божественного, и надеялись, что царь как бы перебрасывает мост из этого мира в мир вечности, и именовали царя богом — нечер, по-египетски чистый»157.
В молитве фараон падает ниц со словами: «Я целую землю, я обнимаю Геба». Существуют изображения, где фараон простерт ниц перед изображением бога 158 . Например, одна из статуй в Луксоре изображает фараона Хоремхеба, простирающегося перед Атумом 159 . Фараоны не считали себя богами, но кланялись богам в смирении, хотя после смерти и стремились к соединению с боже-ством 160 . После смерти фараон становится единым с Осирисом: «Как Осирис живет, так и Унас 161 живет; как Осирис не умирает, так и Унас не умирает» 162 . «О, Унас, ты ушел не мертвым, ты ушел живым!» 163 .
Осирис вершит суд над умершими. Те, кто не творили маат, обречены на отсутствие «выхода в день». Осуждения на суде не происходит, если усопший становится Осирисом 164 — то есть был при жизни Гором и творил маат.
Ощущение своего призвания Александром
Итак, стать фараоном для Александра — означало стать сыном божественного отца, хранителя справедливости, заступника людей, победителя смерти. Возможно, в Египте для Александра произошло слияние образов Диониса и Осириса165. Египет, издревле влиявший на греческую мысль, культуру и науку, повлиял на одного из самых ярких ее сыновей — формируя у него то глубокое и личное отношение к богу, которое через несколько столетий станет целью многих религиозно одаренных людей и которое знаменитый знаток античности Фестьюжер наименовал «личной религией греков», вынеся эти слова в заголовок своей книги.
Современные ученые-историки в большинстве поддерживают представление об Александре как о человеке, которым двигало не только желание расширения подвластных территорий или стремление к воинской славе — он стремился к созданию единого царства, в котором будут в мире жить все народы земли, греки и варвары, приобщившиеся к греческому языку и культуре 166 .
Хотя P. Green в своей крайне критичной книге стремиться развенчать традиционный образ Александра как вдохновленного романтика, одержимого идеей объединения народов мира, но его вывод о том, что Александр постоянно ощущал в себе высшее призвание, достоин внимания, как исходящий из уст исследователя, считающего знаменитого македонца самовлюбленным деспотом, тираном и самодуром 167 . Александр считал себя Дионисом, пришедшим от божественного отца для исполнения его воли — принести ὁμόνοια, гармонию и единодушие всем народам, стать примирителем мира 168 . Он был для своего окружения и для себя — Дионис во плоти 169 .
На пиру в Описе Александр пожелал, чтобы за столом восседали люди всех национальностей, произнося совместные молитвы о единстве империи. Tarn с убежденностью отстаивал тезис о том, что Александр, мечтая о всемирном царстве, верил в общечеловеческое братство — и был первым, кто верил в это 170 .
Культ Александра — сложный феномен. Хотя он опирается на некую традицию, почитание Александра отличалось и от того почитания, что воздавали его предшественникам, и поздним эллинистическим царям 171 .
«Трудно представить себе успех христианства в иной культурной среде, чем та, которая была создана деятельностью Александра», — считает историк ранней церкви Ferguson172. Горизонты каждого человека расширились от своего полиса до целой ойкумены — обитаемого мира, и эта ойкумена говорила на одном языке, на греческом диалекте койне. Разрушались образцы традиционного поведения — это давало возможность проявиться индивидуальности. Избранное стало значимее унаследованного. Это время появления личной религии и личного философского выбора173.
Эллинистические правители
«Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий — как служащий. Ибо кто больше: возлежащий или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий. Но вы пребыли cо Мною в напастях Моих, и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Лк 22:25–30).
«О Возлюбленный, принеси нам прежде всего мир, ибо ты — господь (κύριος)» 174 .
В Евангелии от Луки приводятся слова Иисуса Христа: « Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями (εὐεργέται) называются» (Лк 22:25). Евангелист использует в своем повествовании и другие термины, относящиеся к культу правителя, знакомому его эллинистическим читателям. Среди этих терминов — σωτήρ, κύριος («Господь»), εὐαγγέλιον 175 . Все они использовались в терминологии культа эллинистического правителя (и в дальнейшем перешли в культ императора).
Культ эллинистических правителей родился вместе с эллинистическими государствами. После смерти Александра Великого в 323 г. до Р.Х. начался раздел его империи, ознаменованный кровопролитными войнами диадохов — его полководцев и друзей. В результате передела мира образовались династии, называемые эллинистическими. К ним относятся, в частности, династия Птолемеев (Лагидов) в Египте, династия Селевкидов в Сирии, Антигонидов в Малой Азии и Греции, Атталидов в Пергаме. В них «туземный» элемент подвергся эллинизации в той или иной степени. Цари эллинистического времени обожествлялись как посмертно, так и при жизни. Появился культ эллинистического правителя, существовавший до вхождения этих государств в круг Римской империи, orbis Romana.
Следует отметить, что культ эллинистических правителей значительно отличался от культа Александра, и современные исследователи не считают культ великого Македонца «предшественником» культа его диадохов и их по-томков 176 . Тем не менее, после смерти Александра 177 его почитание как божества усилилось — диадохи размещают его портрет на монетах, отправляют его культ как бога, борются за обладание его телом, как святыней.
Понятие «царя» — βασιλεύς — было совершенно иным, чем понятие о главе монархии в современном смысле слова как правителе определенной территории. Царство было синонимом сферы власти. Сейчас мы говорим «царство Селевкидов», античные люди сказали бы: «поданные такого-то царя». Титул царя был претензией на то, что он — законный правитель. Значение понятия «царь» весьма варьировалось 178 . Эллинистические монархи всегда находились в гуще сложных, многогранных отношений. Это в первую очередь касалось Малой Азии и Сирии, где, помимо множества городов и храмов, существовало множество этнических групп. Восточные влияния также меняли греческую ментальность 179 . После 200 г. до Р.Х. греческая культура вступает в период упадка, и на первый план выходят местные культуры Малой Азии, Сирии, Палестины и Египта 180 .
Чтобы облегчить претензии царя на престол, достаточно было небольшого «подлога» в родословной, главным образом, для того, чтобы обеспечить божественное происхождение. Кроме того, никогда и никому не помешало бы чудо, как сопровождающее, например, рождение царя, так и обретение им своей столицы. Во всех эллинистических царствах, за исключением Македонии, культ правителя развивался, вовлекая в себя все эти разнообразные элементы 181 .
«Бог — тот, кто силен, а король — тот, кто божественен» — говорится в английском детском стишке. Это абсолютно точно отражает восприятие античным народным сознанием понятие божества и царства, на котором покоился культ правителя 182 . Боги отличались от царей лишь большим, так сказать, объемом имеющейся у них власти, и, коль скоро цари имели ту же власть, только в меньшем, сравнительно с богами количестве, преклонение перед царями было вполне резонным преклонением перед божественной властью.
Рассмотрим несколько примеров эллинистических правителей и отправляемого им культа, а также типы развития данного культа 183 .
Первый тип. Культ правителя создается полисом: Антигон Моно-фтальм и Деметрий Полиоркет
Антигон Монофтальм
Антигон I, также известный как «Монофтальм» (Одноглазый), был одним из македонских военачальников Александра Великого, после смерти которого Антигон захватил власть над частью Малой Азии 184 . В 314 г. до Р.Х. Антигон Первый провозгласил все греческие полиса «свободными», а в 306–307 гг. до Р.Х. его сын Деметрий Полиоркет освободил Афины от войск Кассандра.
В 311 г. до Р.Х. граждане города Скепсис недалеко от легендарной Трои, решили принести ему следующие почести:
«Решение народа (δήμος): поскольку Антигон был причиной толикого блага для города и для всех греков...да будет он почтен соответственно делам его ‹…› для него будет отведена часть святилища, воздвигнут алтарь, и воздвигнут прекрасный образ для поклонения. Жертвы, атлетические состязания, украшение венками и прочие торжественные церемонии в его честь должны будут совершаться ежегодно, как они уже и совершаются. он будет увенчан золотым венком ‹…› так же и его сыновья, Деметрий и Филипп будут увенчаны. ‹…› По- мимо этого, город принесет жертвы благодарения за добрую весть (εὐαγγελία), пришедшую от Антигона и все жители должны носить праздничные венки»185.
«Добрая весть» (εὐαγγελία), пришедшая от Антигона, заключалась в том, что он заключил мир с другими полководцами Александра, и по его инициативе, участники этого договора гарантировали греческим полисам в Малой Азии свободу и автономию 186 . Однако этот договор действовал недолго.
Надо отметить, что Антигон не был гражданином полиса, он стоял над полисом. Обычным гражданам таких почестей никогда не воздавалось 187 .
Деметрий Полиоркет
Сын Антигона, упомянутый в декрете выше, был полководцем Деметрием Полиоркетом (покорителем городов). Он имел личную харизму и привлекал сердца людей. После того как он освободил Афины от тирании и оккупации македонян, в 307 г. до Р.Х., жители города оказали ему невероятные почести. Во время его второго визита, в 304 г. до Р.Х., то место, на которое он ступил, сходя со своей колесницы, было объявлено «святилищем сошедшего бога» и там был воздвигнут алтарь 188 . Позже неизвестный поэт сложил культовый гимн, который упоминает Афиней в произведении «Пир мудрецов» (вероятно, это середина гимна — начало и конец отсутствуют) 189 .
Как боги всеблагие и всесильные
Городу мирволят!
Издалека Деметрия с Деметрою
К нам приводит случай:
Она справляет Девы Коры в городе таинства святые.
А он сияя красотой, улыбчивый,
Словно бог нисходит...
Величественно выступает он, кольцом
Тесно встали други,
Как звезды в небе, верные соратники —
Сам он словно солнце!
О, здравствуй отпрыск Посейдона мощного,
Здравствуй, сын Киприды!
Иные боги далеко находятся,
К ним мольбы напрасны,
И нет их здесь, не внемлет ни один из них,
Ты — стоишь перед нами
Не каменный, не деревянный, но живой.
Молимся тебе мы:
О, милосерднейший, дай поскорее нам мир, Всемогущ ты ныне!
Не Фивы, нет, теперь Элладу целую
Сфинга одолела:
На этолийских скалах возлегла она,
Словно встарь, ужасна,
И жизни наши похищает, алчная —
Нет в нас сил сражаться!
Вор этолийский крал, что далеко лежит,
Ныне — что поближе!
Карай его своею властью — или же,
Сам найди Эдипа,
Чтобы Сфингу эту он со скал высоких сверг
Или опозорил 190 .
Подстрочник оригинала дает H.-J. Klauck (приводим наиболее важные отрывки):
«Величайший из богов вошел в град наш, явил нам великую милость.
Счастливая судьба принесла нам и Деметру, и Деметрия.
Се, приходит она праздновать возвышенные мистерии Коры, в то время как он, спокойный, как и подобает богам, приблизился, прекрасный и смеющийся.
О, какое возвышеннное зрелище: все друзья стоят кругом, а он — посреди их, словно друзья суть звезды, а он — солнце»191.
Две первые строки говорят о παρουσία, входе богов в город Афины (употреблен глагол πάρεισιν, как в строках 7 и 6). Пришествие смертного царя ассоциируется с пришествием божества 192 . Внешнее сходство имен и времени года дает ассоциацию с богиней Деметрой и грядущим празднованием Элевсинских мистерий, связанных с Корой, или Персефоной, дочерью Деметры. Это совпадение дает повод видеть в этом событии καιρός, особо благоприятное в отношении божественной милости время 193 .
Спокойствие, красота и смех характеризуют явление людям доброжелательных греческих богов 194 , таких, например, как уже неоднократно упоминавшийся в связи с Александром Дионис. Текст несет множество аллюзий, указывающих на этого бога 195 .
Возможно, Деметрий как солнце, окруженное звездами — более чем поэтическая метафора, и указывает на то, что человеческая судьба определяется звездами.
Посейдон и Афродита, как родители Деметрия, подразумевают его победоносные морские сражения и любовные победы, которые были у всех на устах 196 . Замечателен крайний скептицизм — существуют ли боги, включая Зевса? Если они существуют, то слышат ли они нас? Этот пункт напоминает эпикурейский взгляд на богов. Примечательна и критика статуй богов — не лучше ли обращаться к человеку из плоти и крови, тем более, когда от него исходит столь надежная и быстрая помощь?
В переводе Ф.Ф. Зелинского, знаменитого российского филолога и историка, центральный отрывок этого гимна звучит так:
Будь счастлив, Посейдона с Афродитой сын,
Доблестный Деметрий!
Ведь все другие боги далеки от нас,
Иль они без слуха,
Иль их нет, или дела нету им до нас;
А тебя мы видим:
Не древо ты, не камень — настоящий бог;
Молимся тебе мы 197 .
В конце песни приведена зашифрованная в мифологических образах ситуация: Афины были слишком слабы, чтобы защитить себя от этолийцев, которые, подобно Сфинксу, притесняли афинян, но как Эдип освободил Фивы от Сфинкса, так и афиняне теперь освобождены.
И Антигона, и Деметрия называли «сотерами» («спасителями»), для их культа был учрежден жрец, возведен алтарь (что предполагало наличие священного участка земли — τέμενος), установлены ежегодные празднества с шествием и агоном (состязанием атлетов и поэтов). Эта составляющая культа присутствует во всех остальных типах культа правителя 198 . Деметрий был провозглашен богом, а его военачальники, Адеймант, Оксифем, Боурих получили статус и культ героя в 302–301 гг. до Р.Х. 199 .
В исследованиях XIX — начала XX вв. этот гимн считался примером упадка греческой религиозности 200 . Так, историк древнегреческой религии M.P. Nilsson называет этот феномен «глубокой религиозной деградацией и худшей из оргий в честь простого смертного» 201 .
Верно, что еще во времена Деметрия поднимались голоса критиков такой лести (см. Плутарх), да и сам Деметрий относился к этому иронично. История подтвердила его правоту — когда ситуация изменилась, афиняне отвернулись от Деметрия в 288–287 гг. до Р.Х., уничтожив все культовые почести. Однако, как пишет Klauck, современный исследователь раннего христианства, «невозможно объяснить этот феномен «лестью» 202 .
Этот текст подчеркивает также близкое и видимое присутствие «Деметрия-бога». Именно видение явленной божественной славы, «эпифания», являлось одной из основных черт греческой религии203. Но не думали ли люди, совершавшие такие культовые действия, что они покинуты богами?
Видимое противоречие между отрицанием богов и призыванием их в одном и том же гимне — также характерная черта религиозного менталитета греков, полного «несообразностей» на взгляд современного исследователя. На это указывает современный специалист в области культа эллинистического правителя A. Chaniotis, приводя надгробную надпись из Перинфа:
«Нет причины сказать: «Здравствуй, прохожий!» Жизнь — это то, что видишь ты здесь; скоро умолкнет поющая цикада, цветет роза, но скоро увядает; ‹…› когда смертный жив, то говорит он, когда же мертв, холоден он. Уносится душа прочь, и я растворен» 204 . «Удивительно, — подчеркивает A. Chaniotis, — что эта надпись сделана на могиле человека, который был членом культовой ассоциации в честь Диониса и, без сомнения, был посвящен в мистерии, полного эсхатологической надежды культа, веру в которые он разделял» 205 .
Chaniotis считает, что причин искать несообразностей в гимне нет — гораздо важнее решить вопрос, отчего автор преуменьшил значение традиционных богов и подчеркнул реальное присутствие Деметрия 206 .
Итак, божественным Деметрия делает его власть, владея которой он может, с одной стороны, защитить афинян, а с другой — отомстить их врагам. В этом смысле гимн полностью отражает греческую идею божественности.
О Возлюбленный, принеси нам прежде всего мир, ибо ты — господь (κύριος)» 207 .
Самая главная характеристика божественности для грека — не бессмертие, а то, что боги милостиво склоняют свой слух к мольбам людей и помогают им в нуждах 208 .
Греки, почитая Лисандра, Деметрия или Антигона не считали, что число богов увеличилось, в строгом смысле слова – происходило явление, эпифания божественной силы. В этот период мы не встречаем таких выражений как «сделать богом» (θεῖον ποιεῖν) или «обожение» (ἀποθέωσις)209 .
Второй тип. Обожествление покойного царя. Птолемеи
Этот тип ярче всего представлен в эллинистическом Египте при династии Птолемеев. Происходило обожествление покойных царя или царицы.
Птолемей I Лаг (формально первый фараон XXXI династии) перенес тело своего друга и полководца в Александрию, и основал в Александрии государственный культ Александра Великого, около 286/4 г. до Р.Х. 210 Титул «Сотер» («Спаситель») дали Птолемею благодарные жители острова Родос за спасение их от бедствий войны 211 . Развитие культа правителя (из династии Птолемеев) началось около 290 г. до Р.Х. 212
После смерти Птолемея I (в 283 г. до Р.Х.) его сын и наследник Птолемей II провозгласил его богом, а после смерти вдовы Птолемея I, Береники I, в 279 г. до Р.Х., Птолемей II воздал божественные почести и ей. Покойные супруги получили титул «боги-спасители», θεοί σωτήρες. В их честь был устроен праздник под названием Πτολεμαίεια 213 («Птолемейи») 214 .
В июле 270 г. до Р.Х. умерла Арсиноя, супруга и сестра Птолемея II, что побудило его учредить ее культ по всех храмах египетских богов его царства215. Птолемей также увязал культ сестры-жены и свой с государственным всеегипет-ским культом Александра Македонского, чье тело покоилось в храме Александрии. Титул буквально был таков: «боги-Филадельфы», или θεοί φιλάδελφοι216, и входил в титулатуру жреца-эпонима217, отправлявшего культ Александра Великого.
Придворный александрийский поэт Феокрит писал: «Один лишь Птолемей — никто до него…основал благоуханные храмы своим матери и отцу. Там он и поместил их, сияющих золотом и блеском слоновой кости, как помощников роду человеческому. В каждый месяц сжигал он на обагренных кровью алтарях жирные бедра быков, вместе с благородной супругой своей; никогда до сего не держала в объятьях своего обрученного в брачном покое жена, благороднее сей жены. Ибо она любит того, кто брат и супруг для нее» 218 .
Примеру Птолемея II последовали его преемники 219 . В дальнейшем в культе Птолемеев происходило обожествление и правящего царя, как, например, Птолемея V Эпифана.
Культ Александра стал эпонимным культом, будучи сплетен с культом династии Птолемеев, чем подчеркивалась преемственность монархии и божественность монархов. Так, на Розеттском камне, датируемым временем Птолемея V Эпифана, мы читаем: «Во время жречества Аэта, сына Аэта, жреца Александра, и богов-спасителей (Сотеров), и богов-Филадельфов, и богов-Эвергетов, и богов-Филопаторов, и бога Эпифана и Эвергета (то есть самого Птолемея V)…» 220
Птолемеям также совершался культ, как синнаотическим221 или сохра-мовым богам в храмах традиционных божеств Египта. Их титулатура (Сотер, Эвергет, Филадельф, Филопатор, Филометор, Эпифан, Эвхарист) звучала привычно и для греков, и для египтян, находящих в подобных священных именах знакомые религиозные символы. Известно, что Птолемеев в вопросах культа консультировали египетские жрецы (ярким результатом продуманной и организованной работы такой богословской «комиссии» с членством Манефона, жреца и историка из города Себеннита222 является введение нового культа Сераписа как египетского Осириса-Аписа223 или эллинистического божества с чертами Зевса, Гадеса, Дионисия, Гелиоса, Асклепия)224 .
Культ Птолемеев, который совершали и коренные египтяне, принципиальным образом отличался от всего того, что было до этого в греко-говорящем мире. Здесь произошло сложное взаимодействие и слияние традиционной египетской религии и собственной царской идеологии Птолемеев 225 . В египетском культе сочетались греческие черты и поклонение правителям-богам по греческим обычаям, и древний культ фараонов, в особых храмах, с коренными египетскими жрецами. Cuss считает, что культ правителя в Египте только на первый взгляд имел некую двойственность, связанную с разными этническими группами верующих (греков и египтян), на самом же деле это был единый культ 226 . В общем, местное население приняло культ правителя, предложенный Птоле-меями 227 .
Третий тип. Прижизненный культ правителя
Установление культа здравствующего монарха во всем царстве лучше всего документировано в сирийском государстве Селевкидов 228 .
В раннем эллинистическом периоде культ Селевкидов существенно не отличался от других культов правителей. Культ здравствующих царей и цариц устанавливали по инициативе городов, а со времен Антиоха I обожествление умерших царей было общепринято. Первым царем династии Селевкидов, установившим свой культ во время своего царствования, был Антиох III Великий (241–187 гг. до Р.Х.). В письмах к правителям провинций с требованием учредить должность главного жреца для отправления культа его здравствующей жены Лаодике упоминается уже существующий культ самого Антиоха и его предков. Должность главного жреца (ἀρχιερεύς) была введена в 209 г. до Р.Х.229 В царстве Селевкидов культ правителя был распространен, видимо, только среди греческого населения (в отличие от Египта)230.
Когда Атталиды захватили большую часть Малой Азии (188–187 гг. до Р.Х.), то они сохранили и должность главного жреца для отправления собственного культа.
В царстве Антигонидов, где греческие традиции были сильны, ситуация была иной. Культ монарха был распространен, но только как установленный самим полисом. Даже Антигон Гонат, который, как считалось, отказался от своего культа в городах, находившихся под его властью, все-таки получал в Афинах «богоравные почести» 231 .
На периферии греческого мира, где преобладал негреческий, туземный элемент, культ правителя часто основывался на тщательно разработанной религиозной идеологии. Так, в Коммагене, где Антигон I провел культовые реформы, произошло сочетание иранского религиозного элемента и царского куль- та 232 .
Форма и содержание культа правителя, его роль в эллинистическом мире — по сути своей, феномены греческой культуры. Они продолжают греческую религиозную традицию и связаны с политико-экономическими взаимоотношениями, возникавшими между полисом и эллинистическим правителем.
Существует и схема развития культа эллинистического правителя на примере культа Птолемеев, предложенная E. Ferguson 233 .
Четыре фазы, которые прошел культ правителя в Египте, хорошо иллюстрируют это поклонение. Первая — божественные почести, приносимые из благодарности. Это было просто разновидностью почтения и признанием высшего статуса правителя. Для поддержания и укрепления своего культа Птолемей ввел культ Александра Великого 234 .
Следующая фаза — обожествление первого поколения правителей их потомками. Это было официальным причислением к богам (деификацией), которую проводили правители (и Птолемеи, и Селевкиды). Надписи и монеты периода эллинизма постоянно имеют надписи θεός («бог») и σωτήρ (спаситель») 235 . Александр был первым в греческом мире, кто начал чеканить на монетах свое изображение. До этого на них чеканились лишь изображения богов и почитаемые предметы 236 .
Культ основателя династии был сложен и многогранен, в него включались преемники и члены семьи. Устанавливалось новое жречество, в основном носящее декоративный характер. Культ был основой для выражения верноподданнических чувств.
Третья фаза была специфической для Египта. Богослужение правителям искони проводилось в храмах местных богов. Птолемей Филадельф и его жена-сестра Арсиноя были обожествлены в Александрии. Употребление в языке придворных льстецов божественных эпитетов и божественные почести, т.е. храмы со жрецами, стали рутинным явлением. Однако все это имело четко определенный, официальный характер.
Четвертая фаза — возведение святилищ и храмов правителю как божеству по инициативе частных лиц.
В г. Геликарнасе некто Хайремон основал святилище Сераписа, Исиды и Арсинои Филадельфы. На Кипре в различных городах известно более двадцати домашних алтарей Арсинои. Ее культ продолжался целое столетие после ее смерти. Домашние алтари в честь Арсинои были найдены даже в таких удаленных от Египта городах, как Эретрия и Милет, возможно, их хозяева заключали торговые контракты с Египтом 237 .
Klauck считает, что полноценный династический культ правителя («истинный культ правителя»), центром которого была семья правителя, сформировался только в государствах Птолемеев (Лагидов) и Селевкидов. Он насаждался сверху с целью дать священное основание царской власти. В Египте это произошло быстро, в Сирии — значительно в больший срок, и был обусловлен соперничеством Селевкидов с Лагидами. В остальных областях (династии Атталидов, Антигонидов) существовал местный культ правителя как «благодетеля», «со- тера» и т.д. В нем почести предлагались правителю со стороны определенных городов, испытавших его благодеяния238. Это был так называемый (в отличие от династического) «городской» культ, который, тем не менее, являлся частью общерелигиозного контекста, в который входили все типы культа правителя. Именно так их и следует воспринимать239.
Легендарность — важная составная часть культа
После Александра титулы царей стали носить Птолемеи и Селевкиды. К ним относились как к богам, но никому и в голову не приходило, что они могут совершать сверхъестественные деяния. Истории о чудотворении рассказывались о философах, но не о царях. Для царя было важным иметь правильно сочиненную историю о своем рождении и предках — героях или богах, но нужды в том, чтобы приписывать чудотворную силу самому царю, не было 240 . Исключением можно считать Арсиною II Филадельфу, покровительницу моряков, к которой обращались за помощью и после ее смерти 241 .
Особый случай представляет Арсиноя II, посмертно ассимилировавшаяся в культах с Исидой и Афродитой, и ставшей наиболее популярной богиней в Египте и на Кипре. Два наиболее ранних свидетельства культа Арсинои — частные посвящения. Флотоводец Птолемеев Калликрат посвятил Арсиное-Афродите храм на мысе Зефирион, рядом с Канопой. Это подчеркивает почитание Арсинои как покровительницы моряков 242 , что может быть объяснимо тем, что она ассоциировалась с Афродитой Эвплией или из-за морской направленности политики Арсинои 243 .
Так, о диадохе Селевке I (как и об Александре Великом, походы которого он разделял, в том числе сражение с Пором и тяжелый переход Гедрозии) была сложена легенда, повествующая о его божественном зачатии. Легенда гласила, что его отцом был Аполлон, явившийся во сне его матери, Лаодике, и оставивший ей перстень с изображением якоря. Проснувшись, Лаодика нашла перстень с изображением якоря на своей постели, а у ее сына (и у всех его сыновей) было родимое пятно в форме якоря. Как сообщает римский историк III века по Р.Х. Юстин 244 .
Птолемеи возводили свой род к Аминте II, македонскому царю, который, в свою очередь, восходил к Гераклу через Гилла, предводителя Гераклидов, чья мать, Деянира, была дочерью Оэнея и Алтеи. Оэней — скорее всего, имя-эпитет бога виноделия, в дальнейшем изначальное значение забылось, и Оэней был героизирован. С другой стороны, Птолемеи возводили свой род не только к Гераклу, но к «Гераклу и Дионису», как заявлял Птолемей III, а уже при Птолемее IV было добавлено разъяснение, что отцом Деяниры был Дионис. Птолемей XII уже имел титул «Новый Дионис», что подразумевало то, что он — бог воплощен- ный 245 .
Заслуживает внимания основание Антиохом II Теосом (286–246 гг. до Р.Х.) города Лаодикии на реке Лик, названного им в честь своей жены Лаоди-ки 246 . Антиох последовал знамению в виде орла, слетевшего с неба и схватившего жертвенное мясо, когда он со жрецами молил богов об указании места для строительства нового города. Орел удалился в сторону горы Сильпий, Селевк последовал за ним, и увидел, что орел уронил мясо на горе. Это было расценено как чудо, и город был основан у подножия горы на крови вепря, которого убил своим копьем Селевк при погоне за орлом. При этом при закладке города была принесена и человеческая жертва: убита дева Агава. Ее статуя была из бронзы была воздвигнута для «благой удачи» (ти/n) города 247 .
Таблица 1. Эпитеты некоторых эллинистических правителей 248
|
Эпитет |
Значение |
Примеры правителей |
|
Сотер (σωτήρ) |
спаситель (титул многих божеств) |
Антигон Монофтальм, Деметрий Полиоркет, Птолемей I, Антиох I, Антиох Гонат, Аттал I, Ахей, Филипп V, Эвмен I, Селевк III, Птолемей IX, Клеопатра; Юлий Цезарь, Октавиан Август |
|
Теос (θεός) |
бог |
Антиох II (посмертно) |
|
Эпифан (ἐπιφανίς) или Эпи-фанестат (ἐπιφανέστατος) |
Являющий силу (божества) (титул многих божеств) |
Антиох IV, Птолемей V |
|
Каллиник (καλλίνικος) |
одерживающий прекрасные победы (титул Геракла) |
Селевк II, Митридат I |
|
Эвергет (εὐεργέτης) |
благодетель |
Династия Птолемеев (Птолемей III), Аттал III и др. |
|
Филадельф (φιλάδελφος): в титуле θεοί Φελάδελφοι |
божественные брат и сестра |
Династия Птолемеев. Птолемей II и его сестра-жена Ар-синоя |
|
Филопатор (φιλοπάτωρ) |
отцелюбивый (бог) |
Династия Птолемеев (Птолемей IV) |
|
Филометор (φιλομήτωρ) |
матерелюбивый (бог) |
Династия Птолемеев (Птолемей VI), Аттал III |
|
Эвхарист (εὐχάριστος) |
благодарный (бог) |
Династия Птолемеев |
Форма и содержание культа эллинистического правителя
Культ правителя с самого начала строился по модели культа божества. В его центре был ритуал жертвоприношения (θυσία), обязательная часть любого греческого праздника (πανήγυρις, реже — ἑορτή). Дополнительным элементом была процессия (πομπή) и атлетическое или музыкальное соревнование (ἀγών). Праздник в честь царей и цариц назывался по имени лица, в честь которого он проводился (Атталии, Эвмении, Александрии, Птолемейи и т.п.) Если культ устанавливался при здравствующем правителе, то ритуалы совершались в его день рождения, а также в день рождения царицы. Здесь видна яркая параллель с культом богов-олимпийцев, чьим главным праздником был также день рождения божества 249 .
В точности так же, как и при богослужении богам, жертвоприношение совершалось не ежегодно, а ежемесячно, в тот же самый день. Если культ вводился после смерти правителя, то праздник совершался либо в годовщину его смерти, либо в день его рождения 250 .
Отмечались как празднества и другие события — восшествие на престол, годовщина победы и т.п. Например, в правление Птолемея III (246–221 гг. до Р.Х.). 25-е число каждого месяца было «царским днем», так как восшествие на трон грека-фараона совершилось 25 числа месяца Дия в 246 г. до Р.Х. 251
Жертвоприношение совершалось на алтаре, который возводился на участке священной земли (τέμενος), носящей имя правителя (например, Φιλεταίρειον в Ясосе — в честь Филетера, в честь которого проводился и праздник — Филе-терии в городе Κύμη, в благодарность за военную помощь) 252 .
Около 246–244 гг. до Р.Х. в Илионе были установлены «жертвоприношения благовестия» (εὐαγγελία) в честь Селевка II 253 .
Помимо ежемесячных и ежегодных жертвоприношений могли совершаться «экстраординарные» жертвоприношения — в честь таких событий, например, как победа над врагами или благодеяние городу. Иногда празднования в честь правителя присоединялись к уже существующему в честь богов празднику.
Праздник начинался с шествия, в котором приглашались принять участие все жители города. Они должны были надеть свои лучшие одежды и венки из цветов и листьев. Администрация города, пышно одетая, составляла особое шествие. Наиболее грандиозная процессия была организована Птолемеем II в честь его покойного отца. Описание ее у Калликсена Родосского — одно из наиболее полных описаний античных торжеств 254 .
Подчеркивая родство царской семьи с богами, птолемеевы процессии демонстрировали тем самым царскую и военную мощь. В этих целях прямо на улицах Александрии разыгрывалось театральное представление, а жители-участники процессии, вышедшие на улицы, вовлекались в него, подобно тому, как это сейчас происходит во флешмобах. Интересно заметить, что несколько улиц Александрии носили имя обожествленной Арсинои 255 .
Вступление правителя в город называлось παρουσία. Для встречи правителя выходила особая делегация, вернее, процессия горожан. До нас дошел текст, описывающий встречу Аттала III, правящего в Пергаме с 138 по 133 гг. до Р.Х., в городе Ἐλαια к югу от Пергама.
Горожане, чтобы показать свою благодарность «за все то благо, что получили они из рук его, в знак благодарности за его благодеяния» приняли «постановление совета и собрания: царя надлежит венчать золотым венцом победы… следует воздвигнуть ему священную статую в воинском одеянии, и поставить ее в храме Асклепия Сотера, для того, чтобы он был сохрамовником (συνναός) богу. Золотая статуя, изображающая царя верхом, да будет воздвигнута…по-зади алтаря Зевса Сотера, так, чтобы она стояла на самом видном месте; ‹…› ежедневно ‹…› жрец царя ‹…› да приносит ладан в жертву за царя на алтаре Зевса Спасителя. День же восьмой месяца, в который он вошел в Пергам, да будет священным на все времена, и да устраивает жрец Асклепия великолепное шествие в этот день ежегодно, от дверей городского собрания до притвора храма Асклепия и царя. ‹…› Следует сделать и надписи на священной статуе: «Собрание людей [почитает] царя Аттала Филометра Эвергета, сына божественного царя 256 Эвмена Сотера, ибо он искусен и смел на войне, ибо он победил врагов наших»…Когда он входит в город, все жрецы двенадцати богов и бога Эвмена должны надеть венки, и жрецам и жрицам надлежит открывать двери храмов богов и молиться, вознося жертву ладана на алтарь, о том, чтобы боги теперь и на все времена подали царю Атталу Филометру Эвергету здравие, благоденствие и победы. ‹…› Жрецы и жрицы ‹…› должны выйти ему навстречу вместе со стратегами, архонтами, победителями священных атлетических соревнований, носящими свои венки победителей, а также начальники гимнасиев с эфебами, учителя мальчиков с учениками своими, горожане, все женщины и девы. Все жители города должны быть одеты в белые одежды и носить венки, ‹…› и постановление это да останется действительным на все времена, и да будет включено в свод священных законов» 257 .
На праздниках пели религиозные гимны. Сохранилась надпись из Эритр (Ἐρυθραί), в которой цитируется гимн в честь царя Селевка, «сына Аполлона». Атлетические и музыкальные состязания также имели место на таких праздне- ствах — и порой они «переживали» самого виновника торжества, проводились уже после смерти царя, но, тем не менее, нося имя в его честь258.
Так, ежегодный атлетический агон в Лаодикии на реке Лик (Λύκος), названный «Антиохейи» в честь основателя города, Антиоха II (286–246 гг. до Р.Х.), праздновался даже во II в. до Р.Х. В Пергаме культ почившего правителя существовал в течение долгого времени после его смерти, и даже после конца самой династии 259 .
Существенная разница между культом правителя и культом богов-олимпийцев заключается в том, что храмы, как таковые (ναοί / ναός), посвященные правителям, строились очень редко. Об архитектуре и внутреннем убранстве таких храмов известно крайне мало — только несколько обнаруженных при археологических раскопках святилищ, предположительно, являются храмами, посвященными эллинистическим царям 260 .
Возведение статуи составляло важнейшую часть «богоравных почестей», однако внешне сложно определить разницу между собственно культовыми статуями, перед которыми проводился ритуал, и обычными статуями в честь ца- ря 261 .
Культовая статуя называлась ἄγαλμα, а некультовая — εἰκών или ἀν-δριάς. Декрет г. Скепсиса относительно Антигона Монофтальма гласит: «Да будет отведен ему священный участок земли, возведен алтарь и установлена ἄγαλμα, настолько прекрасная, насколько это возможно» 262 .
Синнаотические боги
Важной чертой культа эллинистического правителя была интеграция его в уже существующий культ «старинного» бога 263 . В таком случае царь или царица становились синнаотическими богами. Культ эллинистических царей часто совершался как культ «синнаотических» или «сохрамовых» божеств — их священные статуи ставились в храмах другого божества, которому, собственно, и был посвящен храм 264 .
Существовало два типа размещения культового изображения: ἄγαλμα правителя помещалась в уже существующем храме, и размещение его в новом, специально построенном «соединенном» храме. В большинстве случаев эти изображения не почитались в культе. Они предназначались для того, чтобы воздать честь правителю, или в качестве вотивных приношений основному божеству храма. Это обычно указывалось и в надписях. Так, изображение Деметрия вместе с изображением Антигона были вытканы на пеплосе вместе с изображениями Зевса и Афины. Кстати, Деметрий Полиоркет сам, физически, жил в храме Аполлона на Делосе, какое-то время — в Парфеноне в 304–303 гг. до Р.Х. и был синнаотическим богом в прямом смысле. В то же время, он не был культовым партнером Афины — они имели независимые культы. Нет и намеков на иерогамию между ним и Афиной.
Однако первое явное свидетельство о синнаотичности правителя – царица из династии Птолемеев, Арсиноя II. Сначала она разделяла культ бога Мендеса в Дельте. «В 15-й год [Птолемея II] в месяце Пахон в день... совершилось посвящение царицы и ее введение во храм». Далее даны детали помазания, четырехдневного промежутка после того, как она вышла как сияющий дух («ах»), и праздник для оживления ее святой души. Совершались все церемонии, которые совершаются для богини, которая получает жизнь во второй раз, ее изображение в виде овна должно быть поставлено во всех храмах, и ее изображение должно было быть поставлено с изображениями божественного овна». Другой фрагмент этого документа говорит, что она достигла небес и соединила свои члены с членами Ра, и повествует о «церемонии отверзения уст». Это, несомненно, относится к ее смерти, включавшей египетский погребальный ритуал. Она стала синнаотической богиней посмертно, так как умерла 9 июля, однако некоторые исследователи предполагают, что ее считали божеством до этого 265 . Арсиное II была учреждена коллегия жрецов κανηφόρος. Вероятно, синнаоти-ческие статуи Арсинои II в храме Нейт в Саисе («было позволено поставить изображение царицы, госпожи обоих земель, Исиды Арсинои Филадельфы) и в храме Мут в Фивах 267/6 гг. до Р.Х., Птаха в Мемфисе и Монса в Гермофисе, являются посмертными.
Боги-сотеры были синнаотическими во многих храмах Египта — в Amenrasonther в Фивах (182 г. до Р.Х. и далее), храме Исиды в Филах (между 126 и 117 гг. до Р.Х.), в храме Chnubo Nebieb в Элефантине (116–115 гг. до Р.Х.). Известны множество царских статуй в египетских храмах Bubastis, Фи- ладельфа, Арсинои, неизвестной царицы в храме Хона в Карнаке, и на 22 году правления Филадельфа в храме местных богов в Факусе (Phakusa). Несомненно, эти события были не исключением, а правилом, но не всегда «канонизация» происходила в начале правления.
Собрание жрецов, принявшее решение, что почести богам-эвергетам, Птолемею III Эвергету и Беренике II, должно быть увеличено, им следует посвятить новую группу жрецов; новый панегирис должен был праздноваться ежегодно. Дочь Птолемея и Береники II, Береника младшая умерла в то время, когда заседало собрание жрецов. Ее решено было «поместить в храме Осириса в Канопе, соделать бессмертной, как Исиду и Мневиса, устроить ей ежегодный праздник, и золотую агалму ее поставить в «в святом месте» (ἐν τοῦ ἀγίου) в каждом храме первого и второго порядка, она будет износиться на почетном месте во всех процессиях, и у нее будет свой собственный праздник в одно время с праздником Кикиллия (Κικηλλια)». Примеры вне Египта также существовали. Так, статуя Аттала III была поставлена в Пергаме, в храме Асклепия, «чтобы он был сохрамовником богу» (ἱνα ἦ σινναός τοῦ θεοῦ) 266 .
Антиох I из Коммагены воздвиг себе святилище на Немрут-Даг и написал:
«Я избрал это место для посвящения как священное седалище для всех богов совместно, чтобы здесь было не только герои — предки мои, которых зришь ты, установленных при моем попечении, но также и божественное пребывание явленных божеств, освященное на святой вершине, и место это да будет свидетелем моего благочестия. Везде, где видишь ты, установил я эти богоподобные изображения (ἀγάλματα) Зевса, Оромазда и Аполлона, Митры, Гелиоса, Гермеса и Артагнеса, Геракла, Ареса и моя всепитающей страны Коммагены. Больше того, и того же камня я поставил копию своего собственнного образа сопрестольную с богами, которые слышат молитвы, и воздал старинные почести великим богам и новой Тюхе, тем самым представил образ бессмертного ума, который часто был виден как мой явленный милостивый помощник, помогающий мне в моих царственных свершениях» 267 . Обряды проводились в день рождения царя и в день восшествия его на престол. Предкам возжигался фимиам, жертвы богам и царю, всем присутсвующим еда и вино, сопровождалось музыкой.
Таблица 2. Местонахождение некоторых храмов синнаотических богов — эллинистических правителей:
|
Имя правителя |
Местоположение храма |
|
Аттал I |
Эгина, Sikyon |
|
Антиох III |
Теос |
|
Аполоний |
Теос |
|
Аттал III |
Пергам |
|
Ариарат V |
Афины |
|
Митридат VI |
Делос |
Культ эллинистического правителя в подчиненных областях
В городах под прямым или непрямым контролем монарха существование жреца здравствующего правителя или его предков маркировали степень зависимости города. В Ксантосе, например, жрец Птолемея IV Филопатора, Береники и Птолемея V был одним из эпонимных жрецов города. В городах Нагидос и Арсиноя культ Птолемея II и Арсинои II играли ключевую роль. В городах, подобным образом зависящих от правителей, важным инструментом власти был гарнизон, стоящий в городе. Военачальник и его подчиненные становились носителями династической идеологии, главным образом, совершая культовые действия в честь царя или членов его семьи 268 .
Лучше всего роль в продвижении культа видна в г. Итанос на Крите — остров, так сказать, находился на периферии династических культов. Один из гарнизонов Птолемеев (до Птолемея III) был там расквартирован. Во время правления Птолемея III итанийцы посвятили τέμενος царю Птолемею III и царице Беренике II, и установили ежегодные жертвы. В соответствующем документе Птолемей III восхваляется как защитник города и его законов. Установленный культ поддерживался под неусыпным оком военачальников, φρούραρχοι. Ко- мандир гарнизона, римлянин (sic!), сделал посвятительную надпись Птолемею IV Филопатору и царице Арсиное269.
Вероятно, династический культ на Кипре тоже был установлен с помощью введенных войск и поддерживался ими. В Эфесе военачальник и его солдаты совершили посвятительную надпись, Птолемею II, Арсиное II, и «богам-спасителям» (то есть Птолемею I и Беренике) после того, как совершили им жертвоприношение. Такими действиями — неважно, совершались ли они по прямому указанию царя или нет, — воины давали понять всем жителям оккупированной территории, что царю присуща божественность, и присутствие царя в городе становилось ощутимым 270 .
Частный культ эллинистических правителей
Хотя царский культ продвигали преимущественно города и сами цари, он не носил только официальный характер. Частное богослужение мертвым или здравствующим монархам явно предписывалось некоторыми декретами. В г. Теос, например, жителей, не имевших статуса гражданина, просили принимать участие в празднике в честь Антиоха III и Лаодики и приносить жертвоприношения в своих домах, а также приносить жертвенные первины фруктов к статуе царя. Вода из источника, посвященного Лаодике, использовалась для жертв, очищений и свадебных ритуалов 271 .
Известны несколько случаев частных посвящений эллинистическим царям и царицам от частных лиц. Обычно эти лица — военные или чиновники, выражавшие таким образом свои верность и преданность царю, благодарность или надежду на защиту 272 .
Выражением верности и благодарности также объясняется поклонении монархам в культовых ассоциациях Диониса, например, в Пергаме и Афинах 273 .
В одной из египетских деревень в Дельте Нила ассоциация земледельцев совершала культ эвергета Париса, венчая его статуи в праздничные дни (ἐπώνυ-μαι ἡμέραι), на которых приносились жертвы в честь царей.
На границе между частным и общественным культом мы обнаруживаем культ правителя, отправляемый в гимнасии — часто гимнасии получали благо- деяния от правителей. Юноши не только получали образование, но и впитывали мировоззрение общества, окружавшего их — и культ правителя играл здесь ключевую роль.
Культ правителя устанавливал тесные взаимоотношения между благодетелем и облагодетельствованным (человеком, группой лиц, полисом). Несомненно, это оказывало влияние на взаимоотношения между полисом и эверге-тами не-царского статуса. Ведь уже на заре эллинистического периода друзья Деметрия Полиоркета получали божественные почести в Афинах 274 .
Обнаружен новый интересный документ из Лаодикии на реке Лик, в котором указывается на божественные почести Ахайю, члену семьи Селевкидов, и его чиновникам, Банабелу и Лахаресу. Их почтили жители поселений Неон Тей-хон и Киддиу Коме, установив их культ за их помощь во время войны с галлами. Ежегодная жертва быка была установлена Ахайю Сотеру в поселении Баба Коме, жертвоприношение трех овнов Лахаресу и Банабелу Эвергетам в святилище Аполлона в Киддиу Коме 275 .
Много времени спустя после того, как династия Атталидов прекратила свое существование, пергамцы повторили воздаяние божественных почестей эвергету Диодору Паспару по атталидскому образцу, а именно, как воздавались они царю Атталу III. Почести включали возведение культовых статуй, отделение священного участка земли (τέμενος) и возведение храма, введение праздника, учреждение должности жреца, создание эпонимного племени и похвалу Диодору, как основателю или κτίστες 276 .
Таблица 3. Некоторые эллинистические правители и ассоциируемые с их культом божества.
|
Эллинистический правитель |
Ассоциируемое божество |
|
Селевк I |
Зевс |
|
Антиох I |
Аполлон |
|
Арсиноя II |
Исида, Деметра и Афродита |
274 Chaniotis А . The Divinity of Hellenistic Rulers. Р. 443.
275Там же. Р. 442.
276 Virgilio B. La citta ellenistica e I suoi “benefattori”: Pergamo e Diodoro Pasparo. Atheneum. 1995. № 82. Р. 299–314.
Диодор из Пергама — между героем и эвергетом
В Пергаме существовал пример «переходной формы» культа героя и эвер-гета. При раскопках в Пергаме в конце XX в. было обнаружено немало археологических свидетельств такого своеобразного культа 277 . Богатый и влиятельный гражданин Пергама, Диодор Паспарос, получил огромное количество почестей за период после 70 г. до Р.Х. Причиной этому послужили его успешные дипломатические переговоры с Римом, в результате которых Пергам был освобожден от ряда тягостных налогов. Диодор также пожертвовал из личных средств на существенную перестройку городского гимназиума. Собрание граждан приняло решение основать святилище под названием «Диодорейон» в честь Диодора еще при его жизни. Это святилище не имело, разумеется, его могилы, что отличает его культ от традиционного культа героя. Оно представляло собой здание, состоящее из культового помещения и помещение-аудиторию, рассчитанное примерно на 120 мест. На передней стене культового помещения в нише была расположена статуя Диодора, вероятно, над ней была расположена вотивная надпись. Культовое помещение и «притвор» (или «вестибюль»), расположенный перед ним, служил для вкушения жертвенных трапез, а в аудитории происходили соревнования музыкантов и певцов, которые воспевали Диодора и его деяния. Об этом, как и о том, что статую украшали венками, а праздники проводились с процессиями и сопровождались состязаниями атлетов, повествуют надписи, сохранившиеся в Диодорейоне. Со смертью Диодора культ не прекратился — комплекс реконструировался около 17 г. по Р.Х., а культовые действия совершались даже в III в. по Р.Х. 278
Новый Дионис
Титул «Новый Дионис» был очень популярен среди правителей на рубеже нашей эры.279. Сам термин «новый, юный, молодой» (νέος), как и сходные термины (καινός, ἕτερος, ἄλλος, δεύτερος, ὁπλότερος) использовались в эллинистической культуре примерно так, как сейчас мы сказали бы о талантливом ребенке- пианисте: «маленький Моцарт»280 . Все они подразумевали новое явление бога в том или ином человеке, именно — правителе281.
Эпифания божественного младенца Диониса возвещает новую молодость вселенной, ойкумены Александра. Это символ «космического палингенеза» — представления о том, что новый бог есть являющийся старый, вера в неизбежное возвращение Золотого Века 282 . Максимума это напряжение достигло в эпоху Августа 283 .
Иудеи и культ эллинистического правителя
Значительное число иудеев жило на территории эллинистических государств, в которых правили династии Птолемеев и Селевкидов, а также в других местностях Малой Азии и Греции, где существовал культ правителя. Во Второй Маккавейской Книге описывается известный случай гонений на иудеев Антиоха IV Эпифана, во время которого пострадали Маккавейские мученики, в дальнейшем ставшие примером и образом для шедших на подвиг мартирии христиан. Автор книги ясно подчеркивает преступления царя в том, что он нарушил пределы, положенные смертным, и заслужил за это свою страшную смерть:
«И тот, который только что мнил по гордости, более нежели человеческой, повелевать волнам моря и думал на весах взвесить высоты гор, повержен был на землю и несен был на носилках, показуя всем явную силу Божию, так что из тела нечестивца во множестве выползали черви и еще у живого выпадали части тела от болезней и страданий; смрад же зловония от него невыносим был в целом войске. И того, который незадолго перед тем мечтал касаться звезд небесных, никто не мог носить по причине невыносимого зловония. Теперь-то, будучи сокрушен, начал он оставлять свое великое высокомерие и приходить в познание, когда по наказанию Божию страдания его усиливались с каждою минутою. Сам не в силах сносить своего зловония, он так говорил: праведно покоряться Богу, и смертному не должно думать высокомерно быть равным Богу» (2 Макк 9:8-12).
Эта полемика с культом правителя проходит в ключе общей полемики с политеизмом.
В книге Иудифи, написанной в эллинистическую эпоху, под видом ассирийской окуппации отображена картина эпохи Селевкидов. В ней Олоферн относит к Навуходоносору выражения, которые употреблялись к эллинистическим правителям: «Кто же Бог, как не Навуходоносор?» (Иф 6:2), «царь Навуходоносор, господин (κύριος) всей земли» (Иф 6:4).
Подобно этому, и в книге Даниила описываются реалии эллинистического культа при Селевкидах (под видом культа, учрежденного царем Навуходо-носором) 284 . Знаменитый образ «трех отроков в пламени халдейском» пришел в византийскую гимнографию, став мотивом 7-ой и 8-ой песен канона, из ранней Церкви, считавшей их образами мартирии, как и Даниила 285 .
«Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в шестьдесят локтей, шириною в шесть локтей, поставил его на поле Деире, в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: объявляется вам, народы, племена и языки: в то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем. Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь» (Дан 3:1–7).
Далее описывается подвиг и чудесное избавление трех отроков, о котором читается в паремиях в Великую Субботу.
В библейском тексте не указано, что царь воздвиг собственную статую, однако, учитывая то, какую роль играли изображения царя в культе «старинных» богов, эта ситуация приобретает характер типично эллинистической.
В книге Премудрости Соломона идет жесткая полемика с эллинистическим культом, в частности, с тем, что цари рождены от того или иного бога. Автор книги, говоря от имени царя Соломона, славнейшего из царей иудейской древности, подчеркивает, что никто из царей земных не имел божественного рождения. В дальнейшем это подчеркнет евангелист Лука в повествовании о рождении на земле Мессии, Царя Иудейского — младенца волхвы найдут «в пеленах» (Лк 2:12) 286 .
«И я человек смертный, подобный всем, потомок первозданного земнородного. И я в утробе матерней образовался в плоть в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном, и я, родившись, начал дышать общим воздухом и ниспал на ту же землю, первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми, вскормлен в пеленах и заботах; ибо ни один царь не имел иного начала рождения: один для всех вход в жизнь и одинаковый исход. Посему я молился, и дарован мне разум; я взывал, и сошел на меня дух премудрости. Я предпочел ее скипетрам и престолам и богатство почитал за ничто в сравнении с нею» (Прем 7:1-6).
За нею следует критика культовых изображений: «Кого в лицо люди не могли почитать по отдаленности жительства, того отдаленное лицо они изображали: делали видимый образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему, как бы присутствующему. К усилению же почитания и от незнающих поощряло тщание художника, ибо он, желая, может быть, угодить властителю, постарался искусством сделать подобие покрасивее; а народ, увлеченный красотою отделки, незадолго пред тем почитаемого, как человека, признал теперь божеством. И это было соблазном для людей, потому что они, покоряясь или несчастью, или тиранству, несообщимое Имя прилагали к камням и деревам» (Прем 14: 17–21).
Небиблейская, но очень читаемая в межзаветную эпоху книга «Псалмы Соломона» говорит о Помпее: 287
«Так не помедли, Боже, воздать им на головы их, дабы обречь высокомерие дракона на поругание! И не помедлил Бог, явив мне надменность его пронзенной на горах Египетских, хуже самого последнего униженной на земле и на море, тело его — носимым на волнах в полном нечестии, и не было никого, кто бы похоронил: ибо унизил его Господь и обрек на поругание. И не помыслил он, что человек, и о последнем не помыслил. Сказал: Господином земли и моря сделаюсь! — и не знал, что Бог велик, могуч в крепости Своей великой. Он — Царь на небесах, судящий царей и владык, пробуждающий меня к славе и усыпляющий надменных к погибели вечной в бесчестии, ибо не узнали Его» (Пс 2:28–35).
Итак, культ правителя был богословски неприемлем для иудеев послеп-ленных поколений, как и для пророка Исайи (ср. Ис 44:9–20).
В «Третьей Сивиллиной книге», ядро которой формировалось в иудейских кругах в Египте Птолемеев, также содержится критическое отношение к культу правителей (Syb 3.545–549): «Эллада, отчего ты поверила смертным правителям, которые не имеют власти избежать собственной смерти? Почему принесла жертвенные дары смертным человекам? Почему совершила жертвоприношения идолам? Кто внушил тебе заблуждение творить такие вещи, оставив лице великого бога?». Далее содержится «эвгемерическое» объяснение почитание богов, как умерших великих людей (Syb 3.551 и далее), сходное с полемикой в 14-й главе книги Премудрости 288 .
Однако нельзя и преувеличивать роль культа правителя как источника постоянного гонения для послепленной религии иудеев, указывает современный исследователь H.-J. Klauck, подчеркивая малое число свидетельств о конфликтах в источниках того времени 289 . Культ правителя вовсе не порождал постоянные противостояния между иудеями и властями во всей эллинистической истории Израиля. Он подчеркивает, что особенность конфликта с Антиохом — попытка насильственной эллинизации иудеев, а не культ правителя как тако- вой 290 .
В той же самой Сивиллиной Книге есть удивительные строки, относящиеся к некоему царю из династии Птолемеев. Царь этот изображается с мессианскими чертами.
«Тогда пошлет Бог царя от восхода солнца, который освободит всю землю от тягостей войны; он поразит одних и исполнит клятву свою другим. Но во всем этом он будет следовать не своим помыслам, а тому, что решено в советах великого Бога» (Syb 3.652–656).
Историки относят этот отрывок к Птолемею VI Филометру (180–145 гг. до Р.Х.), носившего египетский титул «царя от восхода солнца». В Библии имеются свидетельства того, что у иудеев маккавейской эпохи были хорошие отношения с этим правителем:
«В сто восемьдесят восьмом году живущие в Иерусалиме и в Иудее, и старейшины и Иуда — Аристовулу, учителю царя Птоломея, происходящему из рода помазанных священников, и пребывающим в Египте Иудеям — радоваться и здравствовать». (2 Макк 1:10) 291 . Как и «помазанник (мессия!) Кир» (Ис 45:1) у Девтероисайи во время Вавилонского плена, египетский царь виделся орудием Божием, которым Бог «поборал бы за Израиля» 292 .
Таким образом, иудейское отношение к эллинистическому культу правителя не было однозначным 293 .
Выводы
Жажда Александра Великого, влекшая его к покорению мира, не была всего лишь чистой жаждой военной власти. Его цель была выше и грандиознее: образовать οἰκουμένη, общий мир, единство, связующим компонентом которого был греческий язык, но которое было так же приспособлено и к новым культурам. Его последователи, при всем их величии, власти и долголетии, не обладали ни харизмой Александра, ни его убежденностью в «божественном сыновстве» для объединения всех народов мира.
Греческое и восточное соединилось в единой культурном смысле империи Александра. На смену провинциальности пришел универсализм, на смену коллективности — индивидуализм. Даже иудейская и римская культуры не устояли перед эллинизацией.
С другой стороны, эра эллинизма — это эра неуверенности и тревоги. Знаковым является слово, сказанное Александром перед смертью — он, не видя продолжателей своей идеи и своего вдохновения, не называет имени преемника, даже не упоминая своего (еще нерожденного) ребенка. Александр ограничивается тем, что завещает царство «лучшему». Кто этот «лучший»? Не было ли в предсмертных мыслях «сына божьего» разочарования, смешанного с надеждой — ожидания «лучшего, чем он, Александр?»
Как бы то ни было, оставшиеся в живых соратники Александра однозначно не были «лучшими». После смерти Александра наступила полоса бесконечных войн диадохов и сменивших их преемников. Налицо была разница между эпическим временем Александра, практически живым мифом, и печальной реальностью. Переход от полисного сознания к восприятию себя жителем «ойкумены» поселил в сердцах людей того периода чувство одиночества и разобщенности. Войны, эпидемии, социальные нестроения способствовали этому. Вместе с этим исчезала надежда на традиционные культы и богов. Людям была свойственна жажда спасения, «сотерии», освобождения от тягот и злоключений человеческой жизни, и эту жажду сопровождала жажда того, кого они называли «сотером», «эвергетом», «эпифаном» — явления бога среди них. Словно осколки Александра, появлялись многочисленные «спасители», «благодетели», «явленные боги», своим огромным количеством уже свидетельствуя как о неполноте иерофании в них, как и об ожидании такой иерофании. Такой религиозной полноты, которая, как казалось, вот-вот раскроется в царств Александра, объединяющего в себе все народы, эллинистическому времени уже не дано было ощутить — оставалось заполнять бездну тоски по явлению бога среди людей, нагромождая божественные титулы на правителей.
Благодеяние было основным, что ожидалось от человека, имеющего власть, в то смутное время. Тот, кто был благодетель, то и был божественным, что отразилось в распространенном титуле «Эвергет» и нашло место на страницах «эллинистического» Евангелия от Луки. Интересно, что по одной из версий современной библеистики, Лука использует в своем богословии концепцию «Иисуса как Благодетеля», различая, тем не менее, Его от «Высшего Благодетеля» — Его Отца 294 .
Безусловно, культ правителя не мог до конца утолить эту жажду явления бога среди людей, находившую свои тайные утешения в мистериях и философии, сближающейся с религией. Хотя правители назывались спасителями, но личными спасителями они не были, и не побеждали смерть, даруя счастливое посмертие — его люди с высокой религиозной одаренностью искали в мистериях.
Однако неверно видеть в этом культе только государственный официоз, насаждаемый сверху и не находящий искреннего отклика в сердцах верующих.
Надежда на явление воистину иерофаничного правителя, жившая все эти смутные века на просторах Александровой ойкумены, забрезжила с появлением римской императорской власти. Ни Юлий Цезарь, ни Октавиан, как и предшествующие им эллинистические цари и царьки Малой Азии, и даже великий Александр, не были исполнением мечты о царе-посреднике между Богом и людьми. В сердце людей обитал архетип царя-Божественного посредника, символом которого являлся и египетский фараон Древнего Царства, и царь малого народа Палестины, благородный Давид, на потомков которого в надежде взирали пророки Израиля. Иудеи эпохи Второго Храма порой ожидали Мессию, как выходца из другого народа (например, Кир — Ис 45:1), но всегда — как могущественного царя, благоволящего иудеям.
Вместе с этим в межзаветную эпоху в народах эллинистической культуры нарастает жажда обновления, нового явления «древнего бога», словно надежда на некое возобновление утраченного завета Ноя. Надежды обновления так же связываются с правителями, которые получают титулы «новый» рядом с эпитетом бога, особенно яркое сочетание «новый Дионис», бог-младенец, бог, возрождающий к новой жизни и проводящий через смерть, которую сам познал и победил.
Мечта людей эллинистической культуры исполнилась только во Христе-Царе, Царе-Помазаннике, но исполнилась совершенно не тем способом, каким желали люди видеть ее исполнение. На эту свободу Бога пребывать и действовать среди людей тем образом, каким Он Сам желает пребывать и действовать, указывают отступления евангелиста Матфея. После перечисления предков Христа, с подчеркиванием трижды числа «четырнадцать» — числа Давида-царя — Евангелист, прерывая рассказ и кажущуюся гладкость земной истории прихода сына Давидова, в которой Авраам родил Исаака, а Матфан — Иакова (Мф 1:17), делает паузу. Он словно говорит: вот человеческие планы и человеческое рождение, но Рождество на самом деле было так. И далее идет рассказ о Марии.
Но рассказ этот, распространившейся с проповедью апостолов по всей ойкумене, написан на языке Александра Великого, и это не может быть простой случайностью.
Список литературы Некоторые аспекты культа правителя в эллинистическом культурном обществе
- Arndt W., Danker F.W., Bauer W. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
- Balsdon J.P. V.D. Die “Goettlichkeit” Alexanders//Historia. 1950. Vol.1. P.363-388.
- Bosworth A.B. Alexander the Great//Cambridge Ancient History. Vol. VI: The Fourth century B.C. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P.791-875.
- Bowersock G.W. Greek Intellectuals and the Imperial Cult//Le culte des souverains dans L’empire romain (EnAC 19). Ed. den Boer W. Geneva, 1973.
- Chaniotis A. The Divinity of Hellenistic Rulers//Companion to the Hellenistic World. Ed. A.A. Erskine. Oxford, 2003.
- Chaniotis A., Dursley P. Army and Power in the Ancient World. Stuttgart, 2002.
- Charlesworth M.P. Some Observation on Ruler-Cult, Especially in Rome//Harvard Theological Review. 1935. №28. P. 30-38.
- Clark G. Christianity and Roman Society. Cambridge University Press, 2004.
- em Companion to the Hellenistic World. Ed. A. Erskine. Wiley-Blackwell, 2005.
- Cuss D.F.C.J. Imperial Cult and Honorary Terms in the New Testament. Fribourg, Switzerland: The University Press, 1974.
- Danker F.W. Benefactor: Epigraphic Study of a Graeco-Roman and New Testament Semantic Field. Clayton Pub. House, 1982.
- Errington R.M. A History of the Hellenistic World: 323-30 BC. Blackwell Publishing, UK, 2008.
- Ferguson E. Backgrounds of Early Christianity. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2003.
- Feucht E. Childhood//The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. Ed D.B.Redford. In 3 Vols. Vol. 1. Oxford University Press, 2001. P. 261-264.
- Fildes A., Fletcher J. Alexander the Great: Son of Gods. Getty Publications, 2004.
- Frankfort H. Ancient Egyptian Religion: An Interpretation. Courier Dover Publications, 2000.
- Gnoli G. Fravashis//Gale Encyclopedia of Religion. Eds. L. Jones, T Gale. 2nd ed. Vol.5. P. 3190.
- Gradel I. Emperor Worship and Roman Religion. Oxford, N.Y.: Oxford University Press, 2002.
- Green P. Alexander of Macedon, 356-323 B.C.: a Historical Biography. University of California Press, 1970.
- Gundlach R. Der Pharao -eine Hierogliphe Gottes: Zur “Goettichkeit” der aegyptischen Koenigs”//Menschwerdung Gottes-Vergoettlichtung des Menschen. Ed. D. Zeller. Friburg and Goettingen, 1988. P. 13-35.
- Habicht C. Divine Honours for King Antigonus Gonatas in Athens//Scripta Classica Israelica. 1996. №15. P. 131-134.
- Habicht C. Gottmenschentum und griechische Staedte. 2nd ed. Munich, 1970.
- Hart G. The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses. 2nd ed. London, N.Y.: Routledge, 2005.
- Hornung E. Conception of God in Ancient Egypt. One or Many. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1996.
- Klauck H.-J. The Religious Context of Early Christianity. A Guide to Greco-Roman Religions. Studies of the New Testament and Its World. Ed. by Barclay J., Marcus J., Riches J. Edinburgh: T\&T Clark, 2000.
- Koenen L. The Ptolemaic King as a Religious Figure//Images and Ideologies: Self-Definition in the Hellenistic World. Eds. Bulloch A., GruenE., LongA., StewartA. Berkeley, 1993. P. 25-115.
- Kuegler J. Die Windeln Jesu als Zeichen//Biblische Notizen. 1995. №77. P.20-28.
- Lanciers E. Die Opfer in hellenistisxhen Herrscherskult und ihre Rezeption bei den einheimischen Bevoelkerung der hellenistischen Reiche//Ritual and Sacrifice in the Ancient Near East. Proceedings of the International Conference Organized by the Katolieke Universiteit Leuven. Ed. J. Quaegebeur. Leven, 1991. Р. 203-223.
- Ma J. Antiochos III and Cities of Western Asia Minor. Oxford, 1999.
- Meyer E. Alexander der Grosse und die absolute Monarchie//Romischer Kaiserkult. Ed. A. Wlosok. Darmstadt, 1978. P. 203-217.
- Mikalson J.D. Greek Religion. Continuity and Change in the Hellenistic Period//The Cambridge Companion to the Hellenistic World. Ed. G.R. Bugh. Cambridge University Press, 2006.
- Morenz S. Egyptian Religion. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1973.
- Nilsson M.P. Geschichte der griechischen Religion. In 2 vols. Munich, 1974.
- Nock A.D. Notes on Ruler-Cult, I-IV//The Journal of Hellenic Studies. 1928. Vol. 48. Part 1. P. 21-43.
- Nock A.D. Synnaos Theos//Harvard Studies in Classical Philology. 1930. №41. P. 1-62.
- Nunn J.F. Ancient Egyptian Medicine. University of Okhlahoma Press, 2002.
- Ogden D.A. Companion to Greek Religion. Blackwell, 2007.
- Price S.R.F. Rituals and Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor. Cambridge University Press, 1986.
- Radt W. Pergamon: Geschichte und Bauten, Funde und Erforschung einer antiken Metropole (DuMont Dokumente). Cologne: DuMont, 1988. 401 p.
- Radt W. Zwei augusteische Dionysos-Altaerchen aus Pergamon//Festschrift fuer Jale Inan. Eds. Basgelen N., Lugal M. Istanbul, 1989. P. 25-27.
- Rajak T., Pearce S., Aitken J., Dines J. Jewish Perspectives on Hellenistic Rulers. Hellenistic Culture and Society. Vol. 50. 2008.
- Rice E.E. The Grand Procession of Ptolemy Philadelphus. Oxford, 1983.
- Scott K. Plutarch and the Ruler Cult//Transactions of the American Philological Association (TAPhA). 1929. 60. P. 117-135.
- Shaw I. The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University, 2002.
- Tarn W.W. Alexander the Great. Cambridge, 1948. Reissued: 1979.
- Taylor L.R. The “Proskynesis” and the Hellenistic Ruler Cult//The Journal of Hellenic Studies. 1927. Vol. 47. Part 1. P. 53-62.
- Taylor L.R. The Divinity of the Roman Emperor. Middletown, 1931.
- em Cambridge Companion to the Hellenistic World. Ed G.R. Bugh. Cambridge University Press, 2007.
- Whitehouse H. Mosaics and Paintings in Graeco-Roman Egypt//Companion to Ancient Egypt. In 2 vol. Ed. A.B. Lloyd. Vol. 2. Wiley-Blackwell, 2010. P. 1018.
- Thompson D.J. The Ptolemies and Egypt//Companion to the Hellenistic World. Ed. A.A. Erskine. Oxford, 2003. P. 107.
- Tripolitis A. Religions of Hellenistic-Roman Age. Grand Rapids, Michigan, Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2002.
- Versnel H.S. Inconsistencies in Greek and Roman Religion. Brill Academic Publishers, 1990.
- Virgilio B. Gli Attalidi di Pergamo. Fama, eredita, memoria. Pisa, 1993.
- Virgilio B. La citta ellenistica e I suoi “benefattori”: Pergamo e Diodoro Pasparo//Atheneum. 1995. №82. P.299-314.
- Walbank F.M. Koenige als Goetter: Ueberlegungen zum Herrscherkult von Alexander bis Augustus//Chiron. 1987. Vol. 17. P. 365-382.
- WilckenU. Griechische Geschichte in Rahmen der Altertums Geschichte. Berlin, 1958.
- Браун Р. Введение в Новый Завет. В 2-х т. М., 2007.
- Буркерт В. Греческая религия: Архаика и классика. СПб.: Алетейя, 2004.
- Дройзен И.Г. История эллинизма. В 3-х т. М., 2002.
- Зелинский Ф.Ф. Религия эллинизма. Томск: Водолей, 1996.
- Зубов А.Б. Лекции по истории религий, прочитанные в Екатеринбурге. М.: Никея, 2009.
- Иларион (Алфеев), митр. Жизнь и учение св. Григория Богослова. СПб., 2001.
- Кинжалов Р.В. Легенда о Нектанебе в повести «Жизнь и деяния Александра Македонского»//Древний мир: сборник статей в честь академика В.В. Струве. М., 1962. С.537-544.
- Нильссон М. Греческая народная религия. СПб.: Алетейя, 1998.
- Струве В.В. У истоков романа об Александре//Восточные записки. Т. I. Л., 1927. С.131-146.
- Шмеман А., прот. Исторический путь Православия. Париж, 1989.
- Элиаде М. История веры и религиозных идей. В 3-х т. М., 2008.
- Элиаде М. Трактат по истории религий. В 2-х т. СПб.: Алетейя, 2000.