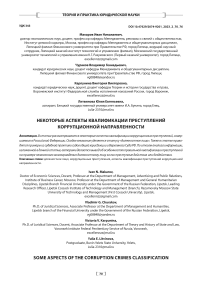Некоторые аспекты квалификации преступлений коррупционной направленности
Автор: Макаров И.Н., Чураков В.Г., Карпунина В.В., Литвинова Ю.Е.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 2 (72), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые аспекты квалификации коррупционных преступлений, совершаемых в Российской Федерации. Особое внимание уделяется статусу «должностное лицо». Также в статье приводятся примеры из судебной практики судов общей юрисдикции и Верховного Суда РФ. По итогам анализа информации, изложенной в данной статье, авторами делается вывод об особенностях правильной квалификации преступлений на примере незаконного вознаграждения должностному лицу за его преступные действия или бездействия.
Должностное лицо, коррупционные преступления, аспекты квалификации преступлений коррупционной направленности
Короткий адрес: https://sciup.org/14128517
IDR: 14128517 | УДК: 343 | DOI: 10.47629/2074-9201_2023_2_70_76
Текст научной статьи Некоторые аспекты квалификации преступлений коррупционной направленности
П ри квалификации преступлений коррупционной направленности особое значение имеет статус должностного лица с организационно-распорядительными и хозяйствующими полномочиями. На наш взгляд, не бесспорны некоторые решения, вынесенные судами по уголовным делам коррупционной направленности. Как мы знаем, в большинстве случаев при квалификации коррупционных преступлений существует специальный субъект, наделенный определенными полномочиями. На наш взгляд, как раз определение правосубъектности и будет являться краеугольным камнем при квалификации коррупционных преступлений.
С одной стороны, комментарий к Уголовному кодексу РФ (далее – УК РФ) и постановления Пленума Верховного Суда дают разъяснения по правильной квалификации преступлений коррупционной направленности, но по факту, кто является должностным лицом и границы полномочий данного должностного лица конкретно не указаны. Правоприменительная практика также не единодушна по данному вопросу. Проблема этого, на наш взгляд, выражена именно в конструкции понятия «должностного лица». При рассматривании состава преступления, то есть применительно к должностному лицу, признаки должностного лица не усматриваются. То есть, при квалификации преступлений коррупционной направленности по субъекту преступления на практике возникают проблемы правильной квалификации данных деяний. А именно, в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда, должностные лица делятся на две группы:
-
1. Представители власти и иные должностные лица, обладающие организационно-распорядительными полномочиями.
-
2. Лица, не являющиеся представителями власти, но в своей профессиональной деятельности располагающие организационно-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями.
При этом, рассматривая постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 16 октября 2009 года «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», мы видим, что вторая группа лиц определяется, таким образом, наделяя их хозяйственными и имущественными полномочиями, что они вправе распоряжаться имуществом хозяй- ствующего субъекта и находящегося в ведении должностного лица. А организационно-распорядительные полномочия должностного лица это управление персоналом, то есть трудовые отношения, иначе способность лица совершать определенные функции в отношении подчиненных лиц. Также Верховный Суд относит к должностным таких лиц, которые принимают решения,имеющие юридическое значение или влекут юридические последствия [4].
Именно здесь мнения юристов расходятся, а точнее возникает юридический спор, касающийся квалификации деятельности врачей и преподавателей. То есть, часть юристов не признают врачей и преподавателей должностными лицами при совершении ими определенных действий. То есть, они не относятся ни к первой, ни ко второй группе лиц. Но имеется мнение, что они являются фактофиксаторами, то есть они удостоверяют юридические факты. Мы видим, что их действия начинают порождать юридические последствия, тем самым эти юридические последствия могут служить для возникновения последующих правоотношений, влекущих возникновение юридических фактов.
К примеру, в обычной практике заведующий отделением больницы является должностным лицом в отношении своих подчиненных и пациентов, так как он решает вопрос госпитализации пациента и осуществляет контроль его дальнейшего лечения.
А вот врач ординатор при обычных условиях не является должностным лицом. Но если данный врач входит в состав экспертной комиссии, осматривает пациента по своей специальности и принимает врачебное решение, которое будет иметь юридические последствия, то тем самым он влияет на решение иных должностных лиц, входящих в состав комиссии при вынесения общего заключения. В этом случае его действия становятся фактом-фиксатором, и он, по нашему мнению, будет признан должностным лицом.
Аналогичный случай, когда врач за незаконное вознаграждение устанавливает неправильный диагноз пациенту и выдает ему лист временной нетрудоспособности, тем самым он также совершает действие, влекущее юридические последствия. На наш взгляд, врач в данном примере выступает как эксперт и его действия надо квалифицировать как коррупционные.
Рассмотрим пример квалификации коррупционных действий, часто встречающихся в образова- тельных организациях, когда студент не находится в подчинении у преподавателя и преподаватель представителем власти не является, но в структуре правоотношений они создают юридические факты, и при этом их действия принимают форму, имеющую юридическое значение.
Мы наблюдаем такие коррупционные действия, происходящие в процессе обучения. Так преподаватель за вознаграждение при принятии экзамена по дисциплине выставляет в экзаменационную ведомость оценку, то есть осуществляет контроль знаний по определенной учебной дисциплине, тем самым, это влечет юридические последствия, на основании этого решения обучающийся переводится приказом ректора института на следующий курс обучения. Это распространяется на допуск обучающегося к государственной итоговой аттестации. То есть должностное лицо учебного заведения не может принять решение, влекущее юридические последствия, не опираясь на факт- фиксатор определенных действий, а именно факт контроля знаний преподавателем у обучающегося в данном учебном заведении.
Рассмотрим пример, когда преподаватель, написал вместо обучающегося за вознаграждение выпускную квалификационную работу. На момент ее написания преподаватель не является должностным лицом, его действия носят этический аспект. Но если данный преподаватель напишет отзыв на данную ра-боту,тоэтот отзывбудет являться фактом-фиксатором, то есть он вводит своими действиями в заблуждение иных членов комиссии по допуску данной работы к защите. То есть его действия порождают юридические последствия. Мы видим, что преподаватель осуществляет свою профессиональную деятельность, при этом не располагает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, но, в то же время его деятельность порождает юридические последствия, имеющие значение для должностного лица. То есть, мы видим, как деятельность лиц порождает юридически значимые факты, от которых зависит решение должностного лица. Конечно, большое значение при правильной квалификации действий преподавателя требуется уделять изучению внутренних нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуру допуска выпускной квалификационной работы к защите и изучению регламентирующих требований по ее написанию.
Таким образом, мы согласны с решением Судебной коллегии Верховного Суда РФ, которая уточнила, что при квалификации должностных преступлений нужно обращать внимание не на статическое положение должностного лица, а на его действия, которые могут порождать юридические последствия.
Большую роль в правильной квалификации имеют локальные нормативные акты организации, где утверждаются формы контроля, когда преподаватель выступает в роли эксперта, то есть порождает юридический факт, из которого вытекают дальнейшие правоотношения между студентом и администрацией организации или нет. Если порождает, то мы видим, что преподаватель выступил соответственно как должностное лицо со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если же действия преподавателя не порождают юридические последствия, то преподаватель исполнил свои профессиональные обязанности и, соответственно, не является должностным лицом.
Таким образом, юридическая конструкция должностного лица должна рассматриваться в деятельностном аспекте, то есть в связи с совершенными им действиями или бездействиями и его полномочиями, которые повлекли или не повлекли за собой юридические последствия. Неправильно считать человека, назначенного на должность должностным лицом автоматически, надо устанавливать для правильной квалификации его полномочия, а также какие из них влекут юридические последствия в связи с совершенными им действиями или бездействиями.
Такой же подход можно применить к ситуации, возникающей при написании курсовой работы преподавателем, когда он берет деньги за написание данной работы. Само написание курсовой работы не относятся к полномочию должностного лица. Но при изучении нормативно-правовой документации образовательного процесса после написания курсовой работы преподаватель пишет отзыв согласно «Положению о подготовке курсовой работы» и выставляет за нее оценку. Если преподаватель, написавший курсовую работу вместо студента, пишет отзыв на эту же курсовую работу и при этом выставляет за ее защиту оценку, тогда он своими действиями принимает юридическое решение. Тем самым преподаватель создает юридический факт, который служит основанием для порождения юридических правоотношений, а также влияет на права и обязанности обучающегося в данном учебном заведении. То есть до момента написания отзыва на курсовую работу и выставление оценки за нее, преподаватель не порождает своими действиями факт-фиксатор, влекущий юридические последствия, и его действия не являются уголовно наказуемыми. Иное возникает только с момента оценивания данной курсовой работы.
При этом если в изучении материалов выяснится, что ценности передавались от обучающегося преподавателю не только за написание курсовой работы, но и за дальнейшее ее лоббирование с другим преподавателем, то возникает следующая ситуация – написание курсовой работы преподавателем будет являться творческой деятельностью и будет иметь этический аспект в отношениях преподавателя и обучающегося. А вот продвижение интересов обучаю- щегося на дальнейшем этапе оценивания курсовой работы у другого преподавателя за вознаграждение будет как раз взяткой, полученной преподавателем от студента через посредника. Взяткодателем будет студент, посредником преподаватель, передавший денежные средства за оценивание курсовой работы, а взяткополучателем преподаватель, выставивший оценку данной курсовой работе. Если мы допустим факт, что посредник не передал денежные средства преподавателю за оценивание курсовой работы, а лишь попросил его это сделать, действия данных лиц в таком случае можно квалифицировать, на наш взгляд, по-другому. А именно, действия студента – как покушение на дачу взятки, а действия преподавателя, получившего денежные средства для лоббирования, – как мошенничество, а преподаватель, оценивший курсовую работу без фактической ее оценки, будет, по нашему мнению, лицом, превысившим свои должностные полномочия.
Оценка обстоятельств зависит полностью от совокупности всех материалов, касающихся данных действий или бездействий. Именно правильная квалификация коррупционных преступлений устанавливает значимые юридические признаки, характеризующие объективную и субъективную стороны вменяемого состава преступления. Большой проблемой при правильной квалификации взятки является предмет взятки. Мы все хорошо знаем, что предмет взятки образуют деньги, ценные бумаги, а также иное имущество (см. комментарий к Уголовному кодексу РФ, ст. 290).
На наш взгляд, сложность в вопросах квалификации взятки возникает в момент получения, посредничества или дачи взятки. При проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) взяткой могут быть признаны предметы, перечисленные в комментарии к ст. 290 УК РФ. А именно муляжи или светокопии и иные ценности. Возникает законный вопрос в ходе ОРМ, проводимых уполномоченными на это правоохранительными органами, какая сумма денег была передана в виде взятки должностному лицу, ведь от этого напрямую зависит степень тяжести совершенного деяния. И вообще, считать ли эти действия должностного лица взяткой? Существуют на этот счет различные мнения, если их суммировать, то можно выделить две основные группы ученых [6].
К первой группе относятся юристы, которые считают, что если должностное лицо и получило муляж денег или иных ценностей, то на основании того, что состав преступления окончен с момента получения вознаграждения хотя бы в его части предмета взятки – то преступление считается оконченным. Вместе с тем, рассматривая более внимательно возникающие на практике подобные эпизоды, мы начинаем понимать, что данное деяние надо рассматривать как ст. 290 УК РФ и ст. 30 УК РФ. Анализируя данные об- стоятельства и опираясь на УК РФ, где перечисляются предметы взятки, мы видим, что в случае передачи под видом денежных средств или ценностей вещей, не имеющих абсолютно никакой ценности, должностное лицо, принимая эти предметы, допускает не сознательно ошибку, расценивая данные предметы как ценные вещи. Вот именно эта ошибка влияет на последующую квалификацию содеянного данным должностным лицом. То есть должностное лицо не доводит умысел на получение взятки в виде, к примеру, денег до конца, по причинам, не зависящим от него, поскольку он не знает, что в результате контролируемого ОРМ ему был передан муляж денежных средств. Но если лица, проводящие контролируемое ОРМ (к примеру «Оперативный эксперимент») в муляж пачки денежных средств положили оригинальные денежные купюры, то в данных обстоятельствах действия должностного лица, принимающего муляж денежных средств с оригинальными денежными купюрами, квалифицируются уже по-другому. Ссылаясь на постановление Пленума Верховного суда от 16 октября 2009 года № 19, такое преступление как взятка является оконченным с момента передачи должностному лицу частиденежныхсредств. Отсюда следует, что любая сумма подлинных денежных средств, полученная должностным лицом, и будет образовывать состав оконченного преступления не зависимо от того, что оставшаяся часть денежных средств была муляжом, и эта конкретная сумма денег будет, является суммой для квалификации преступления [7].
Часто в качестве предмета взятки должностному лицу рассматривается так называемое иное имущество. В практике под иным имуществом понимаются ценные вещи, имеющие денежный эквивалент. При квалификации взятки нужно определить очень важный на наш взгляд факт, должностное лицо должно начать владеть этим имуществом или пользоваться им без возникновения права собственности на него. К примеру, если должностному лицу предоставили автомобиль, который ему по праву собственности не принадлежит, но должностное лицо использует данное транспортное средство. Получается, что должностное лицо временно осуществляло эксплуатацию транспортного средства, то есть, по сути, его аренду на безвозмездной основе. Но так как эксплуатация транспортного средства влечет за собой его износ, то должностное лицо должно было платить амортизационные расходы за временное использование данного транспортного средства. Правоохранительные органы в данном случае должны установить арендные расценки по эксплуатации данного транспортного средства, которые сложились на территории данного субъекта РФ, и на день, на который приходится прекращение эксплуатации транспортного средства, осуществить расчет затрат по эксплуатации транс- портного средства. То есть высчитывается выгода, полученная должностным лицом от эксплуатации этого транспортного средства. В этом случае мы видим взятку в виде услуги имущественного характера, выраженной в безвозмездной аренде транспортного средства в течении определенного периода времени. Сумма, полученная в ходе расчета по временной аренде, и будет являться, на наш взгляд, квалифицирующим признаком данного деяния. При этом мы понимаем, что стоимость самого транспортного средства и сумма его временной аренды не сопоставимы, соответственно и юридические последствия, порождаемые данным деянием различны.
Рассмотрим случай, когда работники контролирующего органа, придя на предприятие общественного питания, находят там нарушения, но не составляют акт нарушения, а соглашаются принять подарок в виде блюд, представляемых в меню данного заведения общественного питания, за свое бездействие. Руководитель заведения общепита организует питание данных лиц в своем заведении, тем самым, на наш взгляд, совершается акт дачи взятки за бездействие должностных лиц.
В данном случае предметом взятки нам представляется обширный список услуг, куда войдут: работа официантов, уборщиц, музыкальное сопровождение, работа гардероба и др. Детально анализируя весь комплекс услуг, мы видим, что это не только услуги неимущественного характера, но и предоставленные продукты питания, которые употребили данные должностные лица, находясь в данном заведении общественного питания, являются предметами взятки. В данном случае не только стоимость продукции будет формировать предмет взятки, а потребуется высчитать стоимость работы персонала и аренду предметов интерьера данного заведения для определения степени тяжести преступления, совершенного сотрудниками контролирующего органа.
Рассмотрим иной предполагаемый случай, когда взятка должностному лицу дана продукцией из санкционного списка, оборот которых запрещен на территории Российской Федерации. На наш взгляд, если невозможно установить стоимость такой продукции, полученной в виде взятки, то речь о предмете взятки не может идти, действия должностного лица нужно квалифицировать, исключая взятку.
То же самое, на наш взгляд, необходимо распространять и на действия должностного лица при получении импортного лекарственного препарата, хождение которого на территории Российской Федерации запрещено и установить стоимость которого не представляется возможным.
На наш взгляд, очень интересной является ситуация по квалификации предполагаемых действий сотрудников ГИБДД при исполнении ими своих слу- жебных обязанностей и лица, предлагающего им взятку за бездействие при выявленном ими нарушении правил дорожного движения (далее – ПДД). Так, к примеру, сотрудники служебного наряда ГИБДД, выявив нарушителя правил ППД, составляют административный материал на нарушителя. При этом в действиях нарушителя ПДД просматриваются намерения по даче взятки сотрудникам ГИБДД, составляющим административный материал, с целью не привлечения его к административной ответственности.
Сотрудники ГИБДД отказываются от предложенной водителем взятки, но водитель настаивает и предлагает денежные средства, при этом демонстрирует денежные знаки в виде наличных денег и оставляет их в помещении, где находятся сотрудники полиции, составляющие протокол об административном правонарушении данного водителя транспортного средства. В данном служебном помещении находятся также сотрудники полиции из отдела собственной безопасности, проводящие служебный рейд по профилактике и борьбе с коррупционными преступлениями, и соответственно проводится аудиозапись и видеосъемка происходящего, а именно фиксируются действия водителя транспортного средства, в отношении которого составлялся протокол об административном правонарушении, и действия сотрудников наряда ГИБДД. На видео зафиксировано как водитель оставляет в служебном помещении ГИБДД денежные средства для сотрудников полиции, выполняющих свои служебные обязанности по организации безопасности дорожного движения. Послетого какадминистративный протокол в отношении нарушителя ПДД был составлен, сотрудники полиции из отдела собственной безопасности задерживают данного водителя транспортного средства, и сразу же встает вопрос, как правильно квалифицировать действия задержанного водителя транспортного средства? Нам представляются действия водителя как дача взятки за незаконное бездействие, выразившееся в не привлечении его к административной ответственности при отсутствии для этого законных оснований. При этом возникает вопрос оконченное ли это преступление или покушение на дачу взятки?
На наш взгляд, в соответствии с пунктом 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о злоупотреблениями и о превышении должностных полномочий» от 16 октября 2009 года № 19, производство ОРМ не влияет на квалификацию действий взяткодателя и взяткополучателя, а также важно включать в правильную квалификацию и п. 10 указанного выше постановления Пленума Верховного Суда РФ, где указано, что состав преступления считается оконченным с момента получения должностным лицом денежных средств хотя бы в части. В данном примере мы видим, что сотрудники ГИБДД на неоднократные предложения о передаче денег води- теля транспортного средства, в отношении которого составлялся протокол об административном правонарушении, отвечали ему отказом. А денежные средства в служебном помещении ГИБДД, оставленные водителем, в отношении которого составлялся протокол об административном правонарушении не были взяты сотрудниками ГИБДД, то есть фактически деньги не были ими получены. Содеянное водителем транспортного средства, на наш взгляд, правильно квалифицировать как покушение на дачу взятки, так как должностное лицо фактически взятку не получило.
Иная ситуация возникает при добровольном отказе от совершения преступления в виде получения должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействия. На наш взгляд, такие случаи сложно квалифицировать. Сложность заключается в том, что покушение на взятку и отказ от получения взятки должностным лицом образует тонкую грань, которая видна лишь при подробном рассмотрении.
К примеру, оперативный сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями (далее – БЭП), проводя проверку хозяйственной деятельности частного предпринимателя, выявил некоторые нарушения. В соответствии со своими должностными обязанностями он должен был составить фиксирующие нарушение документы, зарегистрировать их и доложить своему руководителюо выявленных нарушениях. Но вместо этого у сотрудника БЭП возникает умысел на получение взятки за сокрытие правонарушения, допущенного предпринимателем в процессе его предпринимательской деятельности. Оперуполномоченный сообщает предпринимателю о выявленных им правонарушениях и что он планирует направить материал о нарушении для принятия решения своему руководителю. При этом он поясняет частному предпринимателю, что он готов этого не делать, при условии, что он сможет безвозмездно получить определенный товар, имеющий существенную стоимость, которым торгует частный предприниматель. Частный предприниматель дает согласие на данное предложение оперуполномоченного. При этом сотрудник полиции товар сразу не забирает, а договариваются забрать его через определенное время. После визита оперуполномоченного БЭП, предприниматель обращается в правоохранительные органы с заявлением о преступных действиях оперуполномоченного БЭП. К запланированной встрече правоохранительные органы в лице сотрудников собственной безопасности организуют ОРМ по фиксации действий сотрудника БЭП при получении взятки в виде имущества, принадлежащего предпринимателю. Но в запланированное время сотрудник БЭП не звонит по поводу передачи ему оговоренного товара. Предприниматель и сотрудники, проводящие ОРМ, ждут определенное время и решают, что предпринимателю нужно позвонить сотруднику БЭП инициативно. Пред- приниматель в соответствии с инструкциями, полученными от сотрудников правоохранительных органов, осуществляющими ОРМ, осуществляет контролируемый телефонный звонок оперативному сотруднику БЭП с целью обсуждения времени и места передачи ему бытовой техники за заранее оговоренные условия по сокрытию факта нарушения, выявленные сотрудником в ходе осуществления предпринимательской деятельности. Сотрудник БЭП отменяет заранее оговоренные действия по передаче ему товара за оказанное преступное бездействие должностного лица и прекращает телефонный разговор. Выполняя инструкции сотрудников правоохранительных органов, производящих ОРМ, предприниматель повторно осуществляет контролируемый сотрудниками правоохранительных органов телефонный звонок сотруднику БЭП, где повторно объясняет свои действия и называет предмет договора. Сотрудник БЭП отказывается от дальнейшего сотрудничества с предпринимателем и прекращает телефонный разговор.
На основании задокументированных материалов в виде телефонного разговора сотрудника БЭП и заявления предпринимателя на его неправомерные действия сотрудники правоохранительных органов в лице сотрудников службы собственной безопасности полиции проводят квалификацию действий сотрудника БЭП. Так как сотрудник БЭП отказался от получения взятки от предпринимателя в виде товара, то действия сотрудника БЭП можно расценить как покушение на получение взятки. Но нам представляется правильным квалифицировать его действия по-иному. Основываясь на том, что сотрудник БЭП, выявив недостатки в деятельности взяткодателя в ходе своей служебной деятельности и имея умысел на получение взятки, достиг с ним незаконной договоренности о размере незаконного вознаграждения за преступное бездействие и начал определенные действия на ее получение. Мы видим, что обстоятельства данного деяния установлены правильно, но им дана неправильная квалификация. А именно, как мы видим из приведенного примера, сотрудник БЭП действительно имел умысел на получение им незаконного вознаграждения в виде взятки за преступное бездействие. Однако в дальнейшем добровольно отказался от ее получения. Именно здесь, по нашему мнению, происходит основной момент, который обосновывает добровольный отказ от взятки сотрудником БЭП тем, что в материалах не отражено, что отказ от получения взятки сотрудником БЭП не был вынужденным, а значит, он был добровольным. А это, по нашему мнению, и является главным при квалификации деяния. То есть, основывая свои выводы на ст. 31 УК РФ«Добровольныйотказот преступления» которая, гласит [2]: «1.Добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий(бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца. 2. Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца».
Это основание является реабилитирующим, так как отсутствует состав преступления.
Но представим, что если бы сотрудникам отдела собственной безопасности удалось установить и задокументировать то, что сотрудник БЭП знал, что в отношении него проводятся ОРМ, с целью разоблачения его преступной деятельности, то это был с его стороны вынужденный отказ от совершения престу- пления и его действия подпадали бы под признаки ст. 30 УК. РФ. То есть квалифицировались бы как «Попытка получения взятки».
Рассматривая вышеперечисленные примеры, мы видим, что правильная квалификация коррупционных преступлений зависит напрямую от мелких фактов и деталей, ведомственных инструкций и иных нормативных актов, организующих деятельность служащих и работников ведомств, служб и организаций, без изучения которых невозможно создать целостную картину действий. А также правильно квалифицировать действия или бездействия должностного лица и установить является ли данное лицо «должностным лицом».
Список литературы Некоторые аспекты квалификации преступлений коррупционной направленности
- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. № 237 (с изменениями одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
- Уголовный кодекс Российской Федерации 13 июня 1996 года. № 63-ФЗ // Российская газета. 1993 (с изменениями и дополнениями от 25 марта 2022 года).
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" / СПС "КонсультантПлюс".
- Постановление Пленума № 19 Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 года "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий" / СПС "КонсультантПлюс".
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. Д.Н. Кожухина. - Москва: Проспект, 2021. -1520 с. EDN: FPMUCN
- Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ // Собр. законодательства Российской Федерации. 1995. № 3, ст. 3349.
- Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств: Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 1995 года. № 891 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 24. ст. 2954.
- Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / Климов И.А., Дубоносов Е.С., Тузов Л.Л. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА. 2014. 383 c. - ЭБС "АйПиЭр букс". EDN: RJYZTZ
- Рарог А. Проблемы квалификации взяточничества // Уголовное право. 2013. № 5.
- Волженкин Б.В. Служебные преступления. СПб., 2005.