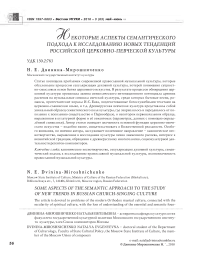Некоторые аспекты семантического подхода к исследованию новых тенденций российской церковно-певческой культуры
Автор: Двинина-Мирошниченко Наталья Евгеньевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: История культуры
Статья в выпуске: 3 (83), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам современной православной музыкальной культуры, которые обусловлены процессом секуляризации духовной культуры, потерей понимания сущностно-смысловых основ бытия церковного искусства. В результате процессов обмирщения церковной культуры произошла замена символического интонационного потенциала древних распевов на музыкальные символы светской культуры, среди которых бытовые песни, романсы, протестантские хоралы И-С. Баха, подтекстованные богослужебными текстами на церковно-славянском языке, и т.д. Древнерусская певческая культура представляла собой уникальный образец семантического поля культуры, где закреплялось и передавалось от поколения к поколению свидетельство о Первообразе, о некотором первоначальном образце, выраженном в культурной форме и её семантемах (параметрах, данных с помощью определённой символики). Автор статьи освещает значимость основной функции церковно-певческого искусства - подобно иконе, свидетельствовать о Божественной реальности. Особого внимания, по мнению автора, заслуживает позитивное направление - каноническое песнотворчество, выраженное в воссоздании культуры пения знаменного распева, интересе к византийской традиции, обращении к древнерусскому многоголосию, социокультурной деятельности регентов-композиторов.
Каноническое песнотворчество, секуляризация духовной культуры, семантический подход к исследованию православной музыкальной культуры, иконозначимость православной музыкальной культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/144160784
IDR: 144160784 | УДК: 130.2:783
Текст научной статьи Некоторые аспекты семантического подхода к исследованию новых тенденций российской церковно-певческой культуры
Семантический подход к исследованию современной отечественной православной музыки актуален в контексте новой парадигмы XXI века. Примерам того, каким образом звук и музыка проектируются как ресурсы для смыслового решения, посвящено исследование современного английского культуролога Торе Уэста «Музыка и проектированный звук». Учёный подчёркивает, что в дополнение к музыке абсолютно все виды звука в значительной степени влияют на сознание человека. Автор указывает на далеко не иллюзорность смыслового значения фонем или шумовых звуков, с которыми сталкивается человек: «Для того чтобы развить сильный бизнес-бренд, компании в настоящее время работают на объединение всех органов чувств. Запах нового автомобиля выделяется из аэрозольного баллончика, а хрустящий звук кукурузных хлопьев разрабатывается в звуковых лабораториях и регистрируется как торговая марка вместе с рецептом и логотипом. Машиностроение имеет специ- альные подразделения, имеющие дело со звуком; шведский производитель автомобилей выделяет три вида звуков: раздражающий, информативный и впечатляющий. Звук двигателя, так же как и закрывающейся двери, проектируется, чтобы сигнализировать ощущение качества … у компании СМИ “Метро-Голдвин-Мэй-ер” есть свой рычащий зарегистрированный звук львиного рыка. “Харли-Дэвидсон” пытался зафиксировать товарной маркой звук выхлопа мотоцикла, утверждая, что клиенты покупали продукт только ради этого звука [7, с. 285]». Тем не менее за экстравагантными примерами стоит опасность реального проектирования семантического поля культуры в коммерческих целях. Этот фактор обуславливает необходимость семантического подхода к исследованию музыкальной культуры в современном мире.
Целью настоящей статьи является освещение новых тенденций современной церковно-певческой культуры, оппозици-онирующих процессам обмирщения ду- ховной культуры, содействующих восстановлению её семантических порядков. На сегодняшний день семантическое поле православной музыки близко понятию символического насилия французского культуролога Пьера Бурдье, которое было разработано в связи с исследованием иерархии символических ценностей. В результате процессов секуляризации российской церковной культуры, особенно бурно развернувшихся с конца XVII века, произошла замена символического интонационного потенциала знаменно- го и других древних распевов, созданных многовековой практикой православной церкви, на музыкальные символы светской культуры: бытовых песен («Барыни» в Пасхальном каноне, «жестокого романса» в молитве «Царице моя Преблагая»), протестантского культа (Избранные Псалмы митрополита Ионафана Елецких, Литургические песнопения митрополита Илариона Алфеева, положенные на музыку И.-С. Баха), академической светской музыки: в частности, цитат из первой симфонии П. И. Чайковского и третьего концерта С. В. Рахманинова (Литургические песнопения монахини Иулиании). Примитивные тонально-гармонические обороты ектеньи в не меньшей мере можно назвать искажённым знанием об интонационном фонде нашей церковно-певческой культуры. Приходя в храм, нововоцерковлённый прихожанин, по сути, остаётся без свободного выбора музыкально-знаковых ценностей своей культуры, ему навязываются музыкально-интонационные символы, находящиеся в определённом контрасте по своим смысловым параметрам с богослужебными текстами. Нельзя не указать и на тот факт, что параллельно с процес- сами обмирщения в традиционной церковно-певческой культуре формируются новые массовые жанры: православный рок (К. Кинчев), православная бардовская песня (С. Копылова, А. Селиванов, А. Галицкий и другие), расплывчатый жанр «песни духовной тематики» (А. Абику-лова и другие), которые уже претендуют на место в системе православной музыкальной культуры. В статье «Интонация как язык домостроительства благодати» В. В. Медушевский пишет: «И совсем страшно, когда небрежно-расслабленым треньканьем под гитару сопровождается слово святое ... Наша же цель – идти к чистоте. Только чистота хранит Церковь [4]». Тем не менее такая бескомпромиссная позиция профессора Московской консерватории и других видных деятелей отечественной культуры, созвучная пониманию православной культуры как символической традиции, до сих пор остаётся «гласом вопиющих в пустыне».
Церковно-певческая культура предполагает определённые моменты катехизации: прежде всего изучение Священного Писания, знание Устава, безупречное владение церковно-славянским языком. Собственно, певческая практика в первую очередь включает знание Осмогласия: развёрнутой системы музыкальных формул и их комбинаций, которые связаны с пением «на глас» и заучиваются наизусть; безусловно, включает знание нотной грамоты, успешное чтение с листа, правильное интонирование. Культура пения связана и с внятным донесением текста и его смысловых акцентов, а значит, предполагает в основном неспешное пение с малой или средней громкостью исполнения и максимально слитное звучание, способствующее одновре- менному произнесению текста. Практика чтения основана на протяжном, распевном, размеренном прочтении, известном как «псалмопение». Определённые акустические параметры церкви, в частности, купольная система, способствуют тому, что при небольшой звучности песнопение легко доносится до слушающих его прихожан. Внешние атрибуты, например наличие платка у женщин, также содействуют особой культуре пения: платок создаёт особую акустическую среду, в которой поющий слышит свой голос гораздо лучше, а значит, не стремится к громкости, к выделению собственного голоса. Также певчие, обладающие хорошим чувством ритма и моторикой рук, часто выступают в роли звонарей. Обширная внехрамовая деятельность: занятия с детьми в воскресных школах, концертная практика, выполняет просветительскую и отчасти катехизаторскую функции.
Отдельной проблемой современности становится расцвет православной академической музыкальной культуры. Яркий макияж и декольтированные платья хористов, мини-юбки исполнителей на первом пульте партии скрипок, светские разговоры в ярко освещённом фойе Большого концертного зала Московской консерватории, где проходит исполнение «Страстей по Матфею» митрополита Илари-она, закономерно не связываются в сознании значительной части православных прихожан с православной церковно-певческой культурой, даже несмотря на то, что в устах видных деятелей РПЦ «Страсти» именуются «весьма значимым, нечастым и особенно дорогим примером живого церковного творчества, и православного по внутренней сути, и адекватного величию темы по своей музыкальной со- ставляющей [5]»1, а части из «Страстей» исполняются на богослужении в крупных приходах Москвы и провинции.
Нельзя обойти вниманием и тот факт, что молодые регенты подменяют Октоих, Часослов и другие богослужебные книги на церковно-славянском языке современными изданиями с транскрипцией песнопений и чтений на русском языке. В результате игнорируется не только старинная знаковая система, имеющая глубокий сакральный смысл и высокие эстетические достоинства, но и сам смысловой подход к процессу богослужения: такая регентская практика обнаруживает стремление не «войти» в трансцендентную реальность служения, а всяческими путями «отодвинуть» от себя требующую интеллектуальной и духовной работы исторически значимую культурную систему. Парадоксом XXI века стало последнее переиздание Октоиха (2011), который впервые вышел без традиционного третьего тома, содержащего нотное приложение. Это создаёт прецедент обнищания возрождающихся храмов и их клиросов каноническими богослужебными песнопениями и ориентации регентов на коммерческую нотную продукцию.
Существенной проблемой является повсеместная замена пономарской практики электронными «звонарями». Что это: достижение XXI века или болезнь века, тормозящая развитие пономарского искусства и в конечном счёте сводящая на нет традиции российской школы звонарей, и, в частности, тот смысл, который вкладывает пономарь в звучание определённой музыкальной фигуры, те молитвы, которые тот читает перед звонами и
1 Протоирей Максим Козлов, настоятель домового храма МГУ.
между ними? Многие храмы переходят на электронику, это актуально: удобно, точно по времени, идеально по звучанию. Тем не менее такая позиция священнослужителей, подменяющих служение пономаря электронной установкой, была подвергнута резкой критике иеродиаконом Романом Огрызковым в его выступлении «Колокола и звоны Свято-Дани-лова монастыря» на Рождественских чтениях, прошедших в Москве в январе 2018 года. Необходимость пересмотра современного взгляда на эту проблему значительной части священства оказывается не менее актуальной, чем проблема воспитания в каждом отдельном приходе профессионального звонаря.
Важнейшая смысловая роль певческой культуры отражена в самом первом чине, через который обязан пройти каждый, вставший на путь священнослужения: «... чтец и певец – низшие степени церковного клира, которые, как приготовительные, должен пройти всякий, готовящийся к принятию священного сана [1, с. 252]». Посвящение будущего священника, прежде таинства хиротонии, в чтеца и певца являет собой ту высокую значимость церковно-певческой культуры, которую придавали ей деятели древней православной церкви.
В наше время мы наблюдаем едва ли не полную утрату смысла этой последовательности пострижения.
Утверждение о том, что прежде, чем быть рукоположенным во диакона и священника (то есть стать достойным чина иерея), готовящийся к таинству должен стать хорошим чтецом и певцом (то есть достойным чина чтеца и певца), в современной ситуации оказывается достаточно умозрительным.
Древнерусская певческая культура представляет собой уникальный образец семантического поля культуры, где закреплялось и передавалось от поколения к поколению свидетельство о трансцендентной реальности, о некотором первоначальном образце, выраженном в культурной форме и её семантемах (параметрах, данных с помощью определённой символики). Необходимо подчеркнуть, что система Осмогласия церковного пения также была и системой календарного отсчёта, что позволяет её трактовать, по мнению А. А. Трошина, «символом формального исчисления жизни, системой референций, покрывающей и календарный год, а следовательно, всё время от его начала до его конца, и даты индивидуальной человеческой жизни [6, с. 141]».
Вопросы возрождения канонического православного музыкального искусства затрагивают проблемы коммуникации между различными ветвями Русской православной церкви. Несмотря на официальное объединение единоверческих церквей с РПЦ (Поместный Собор, 1971), пение старообрядческих общин по-прежнему остаётся вне современной практики богослужения. Это происходит в основном по причине сложившегося строгого уклада жизни внутри каждой общины, охватывающего все стороны его жизнедеятельности. Таким образом, современный человек, объективно не принимающий какой-либо из атрибутов этого уклада, оказывается лишённым возможности обучения и практики одноголосного знаменного распева. Нельзя переоценить заслуги современных учёных-медиевистов, своим трудом, совместно с экспедиторским багажом найденных песнопений, в том числе и в контактах со старообрядче- скими общинами, налаживающих практически утерянные связи между современной православной музыкальной культурой и культурой пения Древней Руси. В этом ключе особого внимания заслуживает позитивное направление современной православной музыкальной культуры – каноническое песнотворчество, выраженное в воссоздании культуры пения знаменного распева («Школа отроков» Г. Б. Печенкина, педагогическая деятельность А. А. Гвоздецкого), в интересе к византийской традиции (школа «Псалти-ка», детско-юношеский хор под управление И. В. Болдышевой), в обращении к древнерусскому многоголосию (ансамбль «Сирин» под руководством А. Н. Котова, в состав которого входят ведущие специалисты отечественного музыкознания, кандидаты искусствоведения П. В. Терентьева, Л. В. Кондрашкова, руководитель анасмбля «Ex Libris» Д. В. Саяпин и другие), наконец, в масштабной социокультурной деятельности почившего диакона Сергия Трубачева, ныне здравствующих регентов Г. Н. Лапаева, Г. Б. Печенкина, иеродиакона Германа Рябцева, Е. С. Ку-стовского, композитора и преподавателя класса аранжировки знаменного распева из Российской академии музыки име- ни Гнесиных В. Б. Довганя, чьи труды и композиторское творчество можно охарактеризовать как иконозначимый феномен. Деятелей вышеуказанного направления характеризует и сформулированная Л. Н. Гумилевым главная российская поведенческая доминанта – «альтруистический патриотизм [2, с. 217]». Яркое, оригинальное творчество регентов отличают аскетическая манера письма и канонические приёмы в изложении музыкальной мысли. Несомненно, этот фактор обусловлен особым отношением к смыслу сочинения как к ведущему фактору творческого процесса: «Донесение до аудитории смысла творческого процесса является важнейшей целью идеализированной потребности художника в предмете творческой деятельности, в идеальной форме предвосхищающего результат [3, с. 13», – пишет философ О. Ф. Марусев. В контексте бытования российской культуры, неразрывно связанной с православием, это – вечное и вместе с тем вечно новое возвращение к Первообразу, к смыслу православной жизни и культуры. В контексте церковно-певческой культуры это – осознание церковного песнотворчества как «окна» в трансцендентную реальность, его иконозначимость.
Список литературы Некоторые аспекты семантического подхода к исследованию новых тенденций российской церковно-певческой культуры
- Большой справочник православного человека: в 4 частях/текст В. Пономарев. Москва: Данилов мужской монастырь, 2014. 685 с.
- Гумилев Л. Н. От Руси до России. Москва: АСТ, 2017. 512 с.
- Марусев О. Ф. Смысл как системообразующий элемент творческого процесса: дис. на соиск. учён. степ. кандидата философских наук: 24.00.01/Марусев Олег Федорович. Москва, 2005. 166 с.
- Медушевский В. В. Интонация как язык домостроительства благодати//Вестник УПЦ №61, Церковь и культура: . Электрон. дан. 01.10.2006. URL: http://pravoslavye.org. ua/2006/10/medushevskiy_vv_intonatsiya_kak_yazik_domostroitelstva_blagodati/(дата обращения: 11.05.17).
- «Страсти по Матфею»: 12 впечатлений со сцены и из зала //Молодежный интернет-журнал «Татьянин день»: . Электрон. дан. 26.03.2012. URL: http://www.taday.ru/text/1545513.html (дата обращения: 22.06.18).
- Трошин А. А. Семантическая концепция понимания как методологическое основание прикладной культурологии//Культурология: фундаментальные основания прикладных исследований/под. ред. И. М. Быховской. Москва: Смысл, 2010. С. 128-144.
- West T. Music and designed sound. The Routledge Handbook of Multimodal Analysis. Edited by Carey Jewitt. Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2009. Pp. 284-293.