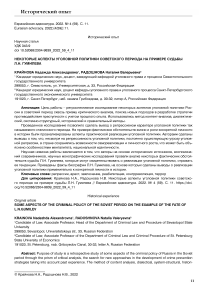Некоторые аспекты уголовной политики советского периода на примере судьбы Л.Н. Гумилева
Автор: Крайнова Надежда Александровна, Радошнова Наталия Валерьевна
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Исторический опыт
Статья в выпуске: 4 (59), 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель работы - ретроспективное исследование некоторых аспектов уголовной политики России в советский период сквозь призму критического анализа, поиска новых подходов в разработке стратегии противодействия преступности с учетом прошлого опыта. Использовались метод контент-анализа, диалектический, системно-структурный, исторический и сравнительный методы. Проведенное исследование позволило сделать вывод о репрессивном характере уголовной политики так называемого сталинского периода. На примере фактических обстоятельств жизни и роли конкретной личности в истории были проанализированы аспекты практической реализации уголовной политики. Авторами сделаны выводы о том, что, несмотря на репрессивность уголовной политики, постоянно существующую угрозу уголовной репрессии, в стране сохранялись возможности самореализации и личностного роста, что может быть объяснено особенностями менталитета, национальной идентичности. Научная новизна работы заключается в том, что авторы на основе исторических источников, воспоминаний современников, научных монографических исследований провели анализ некоторых фактических обстоятельств судьбы Л.Н. Гумилева, которые могут свидетельствовать о реализации уголовной политики, отражать ее тенденции. Приведены факты биографии Л.Н. Гумилева, на основе которых сделаны выводы о реализации уголовной политики применительно к конкретной личности в истории.
Репрессии, арест, заключение, реабилитация, контрреволюция, террор
Короткий адрес: https://sciup.org/140296657
IDR: 140296657 | УДК: 343.9 | DOI: 10.52068/2304-9839_2022_59_4_11
Текст научной статьи Некоторые аспекты уголовной политики советского периода на примере судьбы Л.Н. Гумилева
Научные исследования междисциплинарного характера представляют значительный научный интерес, поскольку позволяют взглянуть на, казалось бы, достаточно изученные вопросы под иным углом зрения, обнаружить новые аспекты проблемного характера. Ретроспективный анализ событий, связанных с жизнью известных творческих личностей (поэтов, литераторов, музыкантов, ученых, мыслителей и т. д.), сквозь призму криминологического исследования позволяет осмыслить конкретные аспекты реализации уголовной политики, вникнуть в причины происходящих явлений, глубже понять их суть с тем, чтобы выстраивать актуальные стратегии уголовной политики с учетом ошибок прошлых лет, исключая их негативное влияние.
В 2022 году в череде знаменательных дат в истории России есть одна, которая вызвала пристальный научный интерес у авторов настоящей публикации применительно к целям исследования. Это 110 лет со дня рождения выдающегося ученого, автора теории пассионарности Л.Н. Гумилева (1912–1992). Проявления репрессивного характера уголовной политики сталинского периода не миновали его судьбу, впрочем, как и судьбы других членов семьи великой А.А. Ахматовой. Это его отец, выдающийся русский поэт Н.С. Гумилев, один из расстрелянных в 1921 году участников так называемого «Дела Таганцева», это и третий муж Анны Ахматовой, профессор Ленинградского университета Н.Н. Пунин, расстрелянный в 1949 году, и многие другие.
Близость репрессий и постоянный страх за своих близких стал основой для одного из величайших творений А.А.Ахматовой, «Реквиема», навсегда запечатлевшего тот мрачный период в истории России. Приведем ее высказывание, отражающее ощущения той эпохи: «Кругом каждый человек – рана» [7, с. 25]. Судьба оказалась 12
благосклонной к сыну, он выжил. Но почему и за что репрессии коснулись Л.Н. Гумилева, авторы попытались проанализировать в настоящей работе.
Несомненно, сын расстрелянного поэта и не обласканной властью А. Ахматовой достаточно плотно находился под наблюдением органов НКВД. Заметим, что в те годы Л.Н. Гумилев всегда носил с собой фотографию расстрелянного отца, память о котором он будет хранить всю жизнь. Помимо этого во всех анкетах Лев вызывающе подчеркивал свое дворянское происхождение, которого не было, так как личное дворянство своего деда С.Я. Гумилева он унаследовать никак не мог [7, с. 38]. Именно поэтому для поступления в университет ему нужен был трудовой стаж, который он и начал зарабатывать в экспедициях.
В 1933 году Л.Н. Гумилев был арестован впервые. Его забрали случайно на квартире известного востоковеда В.А. Эбермана вместе с хозяином и гостями, куда он пришел, чтобы показать свои переводы с арабского языка. Проведя в заключении девять дней, Лев был отпущен [3, с. 55]. Как тогда говорили жители города, «попал в облаву», что свидетельствует о достаточной распространенности подобных мероприятий [2, с. 162–163].
В 1934 году Лев Гумилев наконец был принят на исторический факультет Ленинградского университета (ЛГУ). Он получил зачетную книжку. На ее страницах рядом с оценками «отлично» появятся подписи крупнейших ученых-историков того времени, таких как В.В. Струве, Е.В. Тарле и др. Учеба студента Гумилева в ЛГУ продолжалась с 1934 по 1948 годы, так как ее постоянно прерывали аресты. Возвращаясь из очередной археологической экспедиции в конце сентября 1935 года в Ленинград через Москву, при встрече с Э. Герштейн он сказал: «Когда я вернусь в Ленинград, меня арестуют» [6, с. 39].
22 октября 1935 года одновременно были арестованы два близких для А.А. Ахматовой человека, ее третий муж, профессор Ленинградского университета Н.Н. Пунин и сын, студент Ленинградского университета Л.Н. Гумилев – по обвинению в «создании контрреволюционной террористической организации». Правда, через две недели их освободили. Позже они узнали, как А. Ахматова в отчаянии помчалась в Москву, и стараниями ее друзей Л. Сейфулиной, Б. Пильняка и Б. Пастернака [4, с. 108] письмо дошло до адресата, И.В. Сталина. После начальник 4-го отделения УГБ НКВД ЛО, руководствуясь директивой НКВД СССР, постановил Н.Н. Пунина и Л.Н. Гумилева освободить [1, с. 110].
1938 год начался для Л. Гумилева следующим арестом в ночь с 10 на 11 марта. На допросах ему вспомнили, что в 1933 году он несколько месяцев жил в Москве у Мандельштамов, где О. Мандельштам читал ему свои стихи, в том числе и «Мы живем под собою не чуя страны», также написанное в 1933 году [1, с. 132]. Правда, современные исследователи творчества О.Э. Мандельштама утверждают, что тот читал крамольное стихотворение абсолютно всем желающим, выходя для соблюдения «конспирации» на «черную» лестницу дома, где жил. Удержать его было невозможно, он просил только о том, чтобы его стихотворение слушатели не записывали [5, с. 168].
В годы террора следствие руководствовалось в основном классовым и отчасти национальным подходом. Вспомним кировские потоки (высылка жителей после убийства С.М. Кирова), которые начались в Ленинграде, – в них попали поляки, финны, бывшие дворяне, офицеры, священники и т. д. [2, с. 163]. В течение марта 1935 года за 28 дней было выслано из города 11 702 человека, вина которых состояла по большей части в их прошлом [5, с. 591]. По воспоминаниям очевидцев того периода, в городе все время чувствовался запах дыма – сжигались архивы, документы, бумаги, фотографии, которые могли быть доказательствами дворянского происхождения жителей города [2, с. 178]. По этому поводу Ю. Тынянов сказал: «Память жгут, давно, каждую ночь» [2, с. 179]. В этой связи, как представляется, уже дважды арестованному Л.Н. Гумилеву в третий раз не так повезло. Да и учился он на одном из самых «опасных» факультетов. В период с 1934 по 1937 год на историческом факультете ЛГУ сменилось семь деканов, помимо этого продолжались многочисленные аресты преподавателей [1, с. 127–129]. В июле 1937 года был арестован ректор ЛГУ М.С. Лазур-кин, погибший во время следствия.
В Ленинграде того времени даже был выработан свой язык, когда хотели спросить, за что арестован или осужден человек, вспоминала Л. Чуковская. В таких случаях говорили: «По какой линии пошел Иван Иваныч?». Ответы были: по линии поляков, по линии библиотекарей, по линии астрономов, по линии академиков, по линии глухонемых [1, с. 129].
Во втором уголовном деле, помимо слушателя стихов О. Мандельштама, Л.Н. Гумилеву досталась роль организатора антисоветской террористической группы «Молодежное крыло партии прогрессистов». Также были арестованы студенты филологи-востоковеды Т. Шумовский и Н. Ерехо-вич, хотя Лев был знаком только с первым. Тем не менее их социальное происхождение сделало свое дело: Ника Ерехович был сыном расстрелянного царского генерала и крестником Николая II, а Теодора Шумовского взяли «по польской линии» [1, с. 130–131]. Л. Гумилеву было предъявлено обвинение в контрреволюционной пропаганде и агитации (под агитацией ему вменялось знакомство с крамольным стихотворением О. Мандельштама), организации контрреволюционной деятельности и подготовке покушения на А.А. Жданова. Л.Н. Гумилев, как и другие, под пытками подписывает протокол с признанием своих преступлений [1, с. 133–134].
После этого студентов переводят в Кресты (пенитенциарное учреждение в г. Ленинграде (Санкт-Петербурге)), а окончательный приговор, вынесенный Военным трибуналом Ленинградского Военного округа (поскольку организация была террористической), выглядел так: «Гумилева Льва Николаевича на основании ст. 17-58-8 УК РСФСР 1926 года лишить свободы с содержанием в исправительно-трудовой колонии сроком на 10 лет с поражением в политических правах сроком на 4 года, с конфискацией принадлежащего лично ему имущества». То есть его привлекли к уголовной ответственности как подстрекателя к совершению террористического акта, направленного против представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций, хотя бы и лицами, не принадлежащими к контрреволюционной организации советской власти. Как видим, фактические обстоятельства не содержат состава преступления. Поэтому, хотя в санкциях за совершение преступления, предусмотренного ст. 58.8 УК РСФСР 1926 года, была предусмотрена высшая мера наказания, само наказание было назначено с учетом смягчающих обстоятельств, практически по нижнему пределу (лишение свободы на срок не ниже трех лет).
Как это ни парадоксально, именно в Крестах Л.Н. Гумилев открыл явление пассионарности. Так что озарение, которое пришло к нему в камере, возможно, одно из самых значительных событий в его жизни [1, с. 141]. Полагаем (хотя и не претендуем на знание всех аспектов психологии человека, находящегося в изоляции), что именно уединение и нахождение в стрессовой ситуации способствовали проявлению неординарных человеческих способностей.
Кассацией Военной коллегии Верховного Суда СССР было вынесено определение о том, что кассационную жалобу необходимо отклонить как необоснованную, но приговор в отношении Л. Гумилева за мягкостью и в отношении Н. Ереховича и Т. Шумовского за недоследовательностью дела полностью отменить, дело направить военному прокурору Ленинградского военного округа для производства дополнительного расследования. В июле 1939 года дело было рассмотрено Особым совещанием при НКВД, которое постановило: Л. Гумилева, Т. Шумовского и Н. Ереховича за участие в антисоветской организации и агитацию заключить в исправительно-трудовой лагерь на 5 лет, считая срок с марта 1938 года. Для отбывания наказания Л.Н. Гумилева отправили на Таймыр, в Норильск, Т. Шумовского – в Красноярский край, а Н. Ериховича – на Колыму [1, с. 140].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наказание в виде лишения свободы на срок в пять лет Л.Н. Гумилев получил за стихотворение О. Мандельштама, которое в ходе предварительного расследования его собственноручно заставили переписать. Этот документ остался в уголовном деле в качестве единственного доказательства его вины.
Косвенным доказательством невиновности Л. Гумилева, Н. Ериховича и Т. Шумовского служит процесс «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра», который состоялся в Москве в открытом заседании. К ответственности по ст. 58.8 УК РСФСР были привлечены 16 человек, все подсудимые по этому делу были приговорены к высшей мере наказания с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества, приговор был приведен в исполнение [5, с. 592–593].
В это время у А. Ахматовой уже не осталось в Москве влиятельных знакомых, поэтому ее письма к И.В. Сталину остались без ответа. Б. Пильняк был расстрелян еще в апреле 1938 года, пошатнулось и положение Л. Сейфулиной, ее муж В. Прав-духин был расстрелян в августе 1938 года [1, с. 139]. Во время пребывания сына в тюрьмах и лагерях 14
по первому сроку А. Ахматова написала основные стихи своего «Реквиема».
10 марта 1943 года Л.Н. Гумилев был освобожден от отбывания наказания, но покидать Норильск ему было запрещено. Летом 1944 года за хорошую работу его наградили недельным отпуском в Туруханск, откуда он отправился на военную службу в зенитный полк. Победу в Великой Отечественной войне он встретил под Берлином и вернулся в ноябре 1945 года в Ленинград [3, с. 73–74]. В 1946 году Лев сдает задолженности в ЛГУ, получает диплом и поступает в аспирантуру Института востоковедения Академии наук СССР. К концу 1947 года подготавливает диссертацию и получает на нее положительные отзывы. После публикации постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» Л.Н. Гумилев был отчислен из-за несогласия с осуждением «ахматовщины». Он пытался бороться, известно, что писал письма директору Института востоковедения, руководству Академии, в Ленинградский горком, в ЦК партии [3, с. 78].
28 декабря 1948 года Л.Н. Гумилев блестяще защитил кандидатскую диссертацию по теме «Политическая история первого тюркского каганата», но диплом получить не успел из-за очередного ареста [7, с. 73]. Остались воспоминания о защите диссертации, однако полагаем, что необходимо привести выдержку из мемуаров М.Л. Козыревой о биографии соискателя: «Когда зачитывали биографическую справку, то каждый ее пункт производил впечатление разорвавшейся бомбы: и кто папа, и кто мама, и откуда прибыл, и место работы...» [3, с. 82]. Заметим, что поскольку бывшего заключенного Л.Н. Гумилева никуда не брали на работу, то единственным местом, куда он смог устроиться, было место библиотекаря в психиатрической больнице имени Балинского [3, с. 81].
1949 год вновь принес большое горе в семью А.А. Ахматовой. Н.Н. Пунин вновь был арестован и расстрелян. Он был реабилитирован посмертно в 1957 году. А 6 ноября того же 1949 года в Фонтанном Доме Л.Н. Гумилев вновь был арестован и этапирован в Лефортово. Сначала в своих письмах к матери он не сомневается, что его арест связан с доносами ученых-востоковедов. Но позже, после лагеря, он говорил А. Ардовой, что очередные десять лет (теперь уже за мать) провел в карагандинских лагерях [1, с. 292]. Сама цепочка арестов указывает направление следовательской мысли. В апреле 1946 года Фонтанный Дом с частным визитом посетил сотрудник британского посольства, сэр Исайя Берлин [3, с. 79]. У Н.Н. Пунина и Л.Н. Гумилева следователи пытались получить показания о шпионской деятельности А.А. Ахматовой в пользу Великобритании. О том, был И. Берлин шпионом или нет, до сих пор существуют различные мнения, одно понятно, что его визит к А. Ахматовой являлся данью его уважения к великой русской поэзии.
Однако именно после визита И. Берлина в квартире А.А. Ахматовой была установлена так называемая прослушка – микрофон в потолке [3, с. 79]. Тогда же для удобства слежки за Ахматовой и ее посетителями в доме была введена система пропусков. На пропуске А.А. Ахматовой стояла надпись «жилец».
Целый год А.А. Ахматова ездила в Москву, где каждый месяц передавала в окошечко Лефортовской тюрьмы по 200 рублей. И, чтобы спасти сына, складывала поэму об отце народов, пытаясь так «купить» свободу сыну, никогда позже не забывая о том, что «в 14-м, 36-м, 42-м номерах «Огонька» за 1950 год навсегда остались рифмованные строки, которыми она предавала, убивала в себе поэта» [6, с. 74]. Нельзя не заметить, что НКВД стремился внедрить в круг А.А. Ахматовой своих агентов. И в 1944 году этот расчет оправдался. Агентом стала С.К. Островская, машинистка и переводчица, которая на какой-то период времени была для Ахматовой близкой подругой. Только в 1949 году, догадавшись об истинном назначении С.К. Островской, А.А. Ахматова прервала с ней все отношения [7, с. 82].
13 сентября 1950 года на Лубянке Особым совещанием при МГБ Л.Н. Гумилеву выносится очередной приговор – за принадлежность к антисоветской группе, террористические намерения и антисоветскую агитацию его приговаривают к 10 годам лишения свободы. 31 марта 1950 года материалы в отношении А.А. Ахматовой из следственного дела № 3207 по обвинению Л.Н. Гумилева были выведены в особое производство. А через два с половиной месяца после этого министр госбезопасности Абакумов передал Сталину докладную записку «О необходимости ареста поэтессы Ахматовой», так как она по агентурным и следственным материалам являлась активным врагом советской власти, но И.В. Сталин тогда ее арест не санкционировал [6, с. 76].
А.А. Ахматова и сейчас старалась бороться за освобождение сына и до конца жизни с благодарностью вспоминала тех, кто подписывал письма в защиту Л.Н. Гумилева: писателя М.А. Шолохова, академика Н.И. Конрада и др. [3, с. 92].
Л.Н. Гумилев был амнистирован только 2 июня 1956 года. Военная коллегия Верховного Суда СССР отменила постановление Особого со- вещания при МГБ за отсутствием состава преступления.
Л.Н. Гумилев привез из лагерей черновики двух будущих книг, одна из которых скоро станет его докторской диссертацией [3, с. 97]. Но самым показательным стал разговор самого Гумилева с одним из журналистов, который спросил, как он в анкетах указывает время, проведенное в местах лишения свободы. Л.Н. Гумилев, усмехнувшись, ответил, что реабилитированный гражданин считается по закону несудимым, поэтому в анкетах он пишет, что с 1949 вплоть до 1956 года был научным сотрудником Музея этнографии народов СССР. То есть по анкетным данным ученому исчислялся научный стаж за весь период его нахождения в лагерях. Это тоже парадокс того периода времени!
Таким образом, почти десять лет жизни Л.Н. Гумилева были вырваны репрессиями. А самым страшным стало то, что в первом случае он был привлечен к уголовной ответственности за прослушивание крамольного стихотворения, за которое его автор О.Э. Мандельштам позже заплатил жизнью. Второй срок он получил, в том числе, и как «повторник», что тоже было широко распространено в тот период времени, и далее реабилитирован за отсутствием состава преступления. Как любил говорить Л.Н. Гумилев, первый срок он отсидел за отца, а второй – за мать.
Однако годы лишений не сломили ни духа, ни страсти к науке, ни патриотизма Л.Н. Гумилева. Примечательны его слова о Родине: «В смысле любви, поклонения, обожания и даже обожествления России всегда был и буду патриотом» [3, с. 5]. Это, как представляется, свидетельствует о присущем русскому человеку духе патриотизма, самоотверженности, стойкости и правдолюбия.
Таким образом, проведенное исследование некоторых ретроспективных аспектов реализации уголовной политики России сквозь призму ее преломления в судьбе конкретной личности позволяет сделать вывод о репрессивном характере уголовной политики так называемого сталинского периода. Однако, несмотря на существующую угрозу «уголовно-правовой дубинки», стране удавалось не только оставаться великой державой, но и постоянно увеличивать свою мощь и значение на мировой арене. Большое значение в этом процессе, как представляется, играли особенности русского характера и русской души.
Список литературы Некоторые аспекты уголовной политики советского периода на примере судьбы Л.Н. Гумилева
- Беляков С.С. Гумилев сын Гумилева. М.: АСТ, 2013.
- Вербловская И.С. Горькой любовью любимый… Петербург Анны Ахматовой. СПб.: ЭКЛЕКТИКА, 2014.
- Демин В.Н. Лев Гумилев. М.: Молодая гвардия, 2007.
- Морев Г.А. Осип Мандельштам: Фрагменты литературной биографии (1920-1930-е годы). М.: Новое издательство, 2022.
- Наумов А.В. Преступление и наказание в истории России: монография: в 2 ч. ч. 1. М.: Проспект, 2021.
- Позднякова Т.С., Попова Н.И. Истории Фонтанного Дома (вместо путеводителя). СПб.: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, 2015.
- Попова Н.И., Позднякова Т.С. В том доме было… СПб.: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, 2019.