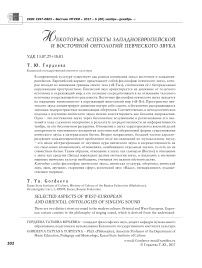Некоторые аспекты западноевропейской и восточной онтологий певческого звука
Автор: Гордеева Татьяна Юрьевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория культуры
Статья в выпуске: 6 (80), 2017 года.
Бесплатный доступ
В современной культуре существует два разных понимания звука: восточное и западноевропейское. Европейский вариант представляет собой философию певческого звука, которая исходит из понимания границы своего тела («Я-Ты»), соотнесения её с беспредельным окружающим пространством. Певческий звук ориентируется на движение от телесного источника в окружающий мир, а его познание сосредотачивается на отношении телесного источника и окружающей его реальности. Восточная философия певческого звука зиждется на ощущении «вписанности» в окружающий многоликий мир («Я-Я»). Пространство певческого звука концентрирует движение внутри себя самого, в бесконечно раскрывающихся звуковых подпространствах возникающих обертонов. Соответственно, в методологическом подходе к изучению певческого звука можно констатировать два больших направления. Одно - это постижение звука через бесконечное вслушивание и распознавание его значений в ходе слухового восприятия в результате сосредоточенности на информативности тембра, на его бесконечном раскрытии. Отношение к звуку характеризуется высокой долей конкретности чувственного восприятия акустической обертоновой формы существования певческого звука в материальном бытии. Второе направление, большей частью характеризующее западноевропейское проблемное поле исследований по музыкальному звуку, - это некое абстрагирование от изучения ауры певческого звука и сосредоточенность на его смысловых взаимосвязях, отношениях, комбинациях отдельных звуков, то есть на их совместном бытии. Таким образом, отношение к звуку как самоцели (Восток) и отношение к звуку как средству (Запад) порождают разные онтологии звука, и подходить к изучению мировых певческих культур необходимо, учитывая это важное обстоятельство.
Философия певческого звука, певческая культура, обертоны, певческий звук, звон, звучание, "гармония сфер", вселенский звук "нада", "невыразимое", художественное творение
Короткий адрес: https://sciup.org/144161113
IDR: 144161113 | УДК: 13.07.25+18.01
Текст научной статьи Некоторые аспекты западноевропейской и восточной онтологий певческого звука
Западноевропейская философия в своих пространственных представлениях исходит из осознания человеком границы своего тела, отграничения себя, соотнесения её с беспредельным окружающим пространством («Я – Ты»). Г. Д. Гачев пишет о том, что категории души и тела, духа и материи – это западноевропейский аппарат философии, исходящей из представления о «рассечении мира и каждого существа надвое», а Китай, отчасти Индия и многие народы Африки не имеют таких категорий и таких представлений. Ссылаясь на работы Б. Уорфа о языке индейцев хопи, он делает вывод о тех народах, которые не делят мир на субъект-объект (на человечество как субъект, а окружающий мир как объект), что свойственно принципам европейской логики. В результате они познают в мире принципиально «иное», «что и не снилось нашим мудрецам [4, с. 188]». Е. Левинас замечал, что «чистая духовность идеалистического субъекта и чистая материальность природы – это созданные человеком абстракции, противостоящие друг другу [7]». Г. П. Меньчиков делает вывод о том, что родовое понятие «бытие» неопровержимо объединяет материальное, как «телесный способ существования бытия», и духовное, как «информационно-экзистенциальный способ существования бытия» [8, с. 126].
Человек древности был другим, он понимал-принимал одно через другое, духовное через телесное. На основе анализа исторической реконструкции человека древности Р. Штайнер писал, что человек «смотрел на своё “Я” не как сотворенное снизу, средствами физических и эфирных субстанций, а как на дарованное милостью свыше … И, скорее, как повозку жизни, в которой он был вынужден передвигаться в физи- ческом мире, – так представлял он себе свою физически-эфирную природу [14, с. 45]». Размышления Е. Левинаса также говорят о том, что в древних культурах
«по-видимому, в конкретном восприятии между “Я” и “не-Я” сначала возникает отношение не противопоставления или коренного различия, а выражения; выражения одного в другом … Между мыслящим “Я” и внешним миром материи возникает осмысленность выражения, означаемое значимости, отличное от интериоризации знания и господства Того же над Другим [6]». Таким образом, отношения выраженности «Я» через «не-Я» и, наоборот, «не-Я» через «Я» формируют восточное представление о многомерном окружающем пространстве (полипространстве), находящемся не только вокруг многочисленных «Я», включая и их самих, но и заключающем, в свою очередь, всю необъятность «неЯ» в каждом их этих «Я», многократно отождествляясь.
Данная статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу западноевропейской и восточной онтологий певческого звука. Полагаем, что основным аспектом различий является пространственные представления о звучании. Миропространственные представления той или иной культуры напрямую отражаются в звуке. Выявить причины их различий возможно, если предложить в качестве критерия феномен, связанный с бытийными основаниями человеческого звукопроизводства. Полагаем, что таким феноменом может явиться певческий звук.
Акцент в западноевропейском миропонимании на отношениях «Я» и «не-Я» формирует и отношение к окружающему пространству как некоей противостоящей человеку, единой, окружающей его монобеспредельности, имеющей необъятные размеры, ограниченные линией горизонта.
Т. В. Чередниченко отражает суть пространственного представления в западноевропейской культуре, при котором «нацеленность пения – горизонт. Скругленная форма оперного или филармонического зала … вторит конфигурации храмового пространства … В свою очередь, храмовое пространство символизировало сферический предел мира, стянутый к сакральному центру. Поющий устанавливает себя в качестве центра мира и заполняет мир собой, своим переживаемым временем [13, с. 24]».
В субъектно-объектном подходе западноевропейской культуры звукопорождающий «Я» противопоставляет себя необъятному пространству Космоса, то есть «Другому», и ориентируется на его максимальное постижение заполнением этого «Другого» собой, располагаясь в нём, оставляя след.
Певческий звук ориентирован, направлен на движение в беспредельном окружающем пространстве вовне от тела поющего с определённой целью – захватить как можно большую площадь пространства, распространиться, улететь, чтобы дальше обозначить границы звуко-пространства, присвоенного (отслеженного) звуком. Т. В. Чередниченко образно описывала стремление звука, рождённого в узкой тесноте тела, вырваться на широкий простор. Вероятно, в этом стремлении заложено невольное желание человека соразмерить «деку», которой звук обязан своим появлением на свет, с необъятной «декой» самого Мира.
Восточная философия певческого звука исходит из ощущения «вписанности» человека в окружающий многоликий мир (ситуация «Я-Я»). Сосредоточенность певца на движении множества обертоновых подпространств внутри зву-копространства «основного» тона и на акцентуации «опорных точек» нацелена в то же время и на широкий охват космического звучания, на со-движение со звучащей космической аурой, на ощущения «одного в другом».
Видимо, представители восточных цивилизаций воспринимали окружающее пространство многомерной, бесконечно движущейся сферой, постоянно пополняющейся звукопространствами тонов и обертонов. Звучащая Вселенная предстаёт неким полипространством звучаний.
Напротив, европейцы более склонны к пониманию окружающей реальности как вечной бескрайней недвижимой бездны. Так, в картине мира Ньютона Вселенная предстаёт как некое пустое пространство.
Г. Орлов судил о различиях в хро-нотопических представлениях западноевропейской и восточной музыкальных культур по отсутствию у европейцев психологического ощущения текущего времени-пространства [10, с. 111]. Вероятно, можно сказать, что Вселенная представляется европейцам как необъятное «статичное» монопространство с человеком как центральным субъектом, постигающим этот объект. «Главная отличительная черта европейского музыкального искусства, – писал Дж. К. Михайлов, – моноцентричность, наличие эпицентра, чаще всего в чисто архитектоническом смысле, а иногда подкреплённого момен- том высшего эмоционального напряжения (кульминация) [9, с. 17]». Для представителей же Востока порядок миров во Вселенной бесконечен, все процессы и явления одинаково ценны. По данным эксперимента учёных Мичиганского университета (Энн-Арбор, США), у европейцев (а также американцев) и китайцев даже взгляд на окружающее пространство сильно различается в буквальном смысле. Европейцы фокусируют взгляд на центральном объекте любого пространства, не замечая фона. А азиаты, напротив, ухватывают картину масштабно, придавая большое значение подробностям фона.
Два самых разительных подхода к певческому звуку выделились в результате существования двух мировых звуковых концепций – это античная древнегреческая концепция «гармонии сфер» (Платон) и концепция вселенского звука «Нада» (Индия). Уже в самом обозначении данных теорий можно понять, что «гармония сфер» предполагает некое согласие, взаимодействие между разными объектами звукопроизводства, в данном случае – между планетами, рождающими звучание при их движении по орбите. Данная концепция сосредотачивает внимание, формирует интенциональную настроенность сознания на отношения между звучаниями планет и, соответственно, сосредотачивает акценты, как следствие, на культивировании звуков, которые должны взаимодействовать друг с другом на основе консонанса. На первый план выводится, если обращаться к певческому звуку, отношение между звуком, произведённым человеком, и звуком, рождаемым в природе, а далее – и между звуками культурного звукопро- странства. Соответственно, звук неким образом оказывается изъятым из звуковой непрерывности, какую представляет собой постоянное звучание сфер, он подвергается, как отмечает Е. В. Васильчен- ко, насильственному «усечению» сознанием [3]. Это происходит в целях направ- ленности мышления на возможности и средства согласования звуков между собой и выстраивание из таких звуков некоей непрерывной последовательности, стремящейся этой непрерывностью как бы восполнить дискретность отдельных звуков и тем самым обрести качество бесконечного, утраченного в результате изъятия. Но сам акт изъятия уже произведён, и звуки обрели свои границы. Уверенность Пифагора в том, что можно услышать гармонию сфер (подтверждением действительности такого звучания уже в настоящее время стали сравнительные данные звуковых частот, образуемых от движения планет, полученные при помощи космической техники, которые в целом гармонически сочетаются), побудило учёного искать подобные гармоничные сочетания между звуками в звучании отдельных участков струны. Оказалось, что целочисленные деления струны рождают гармоничные сочетания интервалов: октавы, квинты и кварты. Таким образом, обнаруженное Пифагором прямое соответствие между числом и гармоничным звучанием струн определило рационалистический подход к организации музыкальных звуков в западноевропейской музыкальной культуре на все последующие тысячелетия.
Размышления Ф. В. Шеллинга относительно звукового феномена содержат важное различение двух подходов к пониманию звучания, а именно – как к «звуку» и как к «звону», в чём, собственно, скрывается своеобразный корень различий между отношением к звуку Востока и Запада. «Звучание есть родовое понятие. Звук есть звучание, кото- рое прерывается; звон есть звучание, которое воспринимается как непрерыв- ность, как непрестанное течение звучания. Но высшее различие между обоими состоит в том, что простое звучание, или звук, не позволяет отчётливо распознать единство в многообразии; и этого как раз достигает звон, который есть звучание, соединенное целокупностью. Именно мы слышим в звоне не один только простой тон, но целое множество тонов, как бы окутанных им и в него внедренных, и притом так, что преобладают созвучные тона, тогда как в звучании или звуке – диссонирующие. Опытное ухо даже различает их и слышит, помимо унисона или основного тона, также ещё и его октаву, октаву квинты и т.д. Множественность, соединенная с единством в сцеплении, как таковом, становится, таким образом, в звоне живой, самоутверждающейся множественностью … самый звон есть не что иное, как созерцание души самого тела или непосредственно связанного с последним понятия в прямом соотношении с этим конечным. Условие звона есть неразличимость понятия и бытия, души и тела в теле; самый акт приведения к неразличимости есть то, в чём идеальное в его повторном облачении в реальное открывается восприятию как звон. Отсюда условие звучания состоит в том, что тело выходит из состояния неразличимости [14, с. 193]».
Концепция вселенского звука «Нада» изначально настраивает на некую цельность, неделимость Единого, представ- ляемого звуком. Звук как акустическое явление бесконечно разворачивается во времени, передавая звучание всё новым и новым рождающимся обертонам, уходящим всё выше и выше (по мысли Е. Д. Резникова, вибрация порождает созвучную вибрацию [17]). Звук, рождённый человеком, как бы «подключается» к этой большой нескончаемой звуковой игре и встраивает свой звуковой обертоно-вый узор в звучащую вселенскую ауру. Бесконечность звучания «Нада» всё более обогащается подпространствами обертоновых призвуков в результате подключившегося к нему в некоей точке пространства нового звука. Этот персональный звук не отграничен от «Нада», а вписан в него. Свами пишет, что «элемент пространства самый необусловленный, свободный от гун, качеств и категорий, и он прямо указывает на Реальность, имеет свойство сразу превосходить формы, имена, атрибуты и качества. Мы представляет себя и все происходящее в чистом пространстве [6]».
Х. И. Хан, анализируя восточную философию звука, приходит к заключению, что источником, из которого было создано всё творение, является звук, вибрация. Вибрация представляет собой движение, и звук, соответственно, является «эффектом движения». Х. И. Хан пишет, что звук абсолютного в Ведах именуется Анахад, что означает «неограниченный звук». Тот, кто постигает тайну этого звука, постигает тайну неделимой Вселенной. Этим звуком наполнено пространство Вселенной, наполнено тело человека внутри и снаружи также окружено им. Наблюдается в связи с данным обстоятельством интересная особенность: тело размещается в пространстве, а пространство – в теле. Поэтому звук Анахад звучит и внутри человека, и снаружи. Человек начинает слышать звук Анахад, если только он сможет отвлечься от внешнего материального существования и сосредоточиться на слышании вибраций этого тонкого плана звучаний. Х. И. Хан замечает, что «ограниченная громкость земных звуков столь конкретна, что затмевает влияние абстрактного звука на чувство слуха, хотя по сравнению с ними звуки земли более грубы, они похожи на барабан по сравнению с тонким свистом. Когда абстрактный звук делается слышимым, все остальные звуки становятся неразличимыми [12, с. 81]». Х. И. Хан считает предназначением колоколов и гонгов в церквях и храмах служить напоминанием человеку об этом священном звуке, с тем чтобы вести его к внутреннему осознанию себя. Х. И. Хан пишет о восточном представлении голоса как идеального музыкального инструмента, по образу которого созданы другие музыкальные инструменты. Он указывает на важную особенность такого качества звука, как естественность, имея в виду естественность громкости и диапазона звучания. Напряжение певческого голоса, должного озвучивать в эпоху коммерциализации культуры огромные залы, противопоставляется мыслителем естественному звучанию голоса древневосточной традиции, которая сосредоточена на ощущении беспредельного звучания звука мира в себе самом, в своём собственном теле, а не на направленности голосовой энергии во внешнее пространство. Показателен в этом отношении самый главный древнеиндийский музыкальный инструмент вина, звук которого едва слышим. Х. И. Хан пишет, что тем самым этот инструмент концентрирует вибрации и предназначен для медитации, то есть для единения с Единым. Голос рассматривается как выражение духа человека и способ обретения взаимосвязи со всеми тонкими планами его бытия.
Р. Штайнер также отмечал, что «для восточного человека окружающий мир, который теперь мы называем нашей физической средой, был только подножием Космоса, мыслимого как единство. Человек имел в своём окружении то, что содержится в трёх царствах природы, он имел вокруг себя реки, горы и т.д.; но для него эта среда была насквозь пронизана духом, пропитана им и сплетена с духом. Древневосточный человек мог бы сказать:
я живу среди гор, я живу среди рек, но я также живу среди элементарных существ гор и рек; я живу в физическом царстве, но это физическое царство есть тело духовного царства. Меня повсюду окружает духовный мир, низший духовный мир [15, с. 26]».
Исходя из такого миропонимания можно предположить, что звукопроду-цирование Востока, уходящее своими корнями в древность, направленное на подражание звукам природы и омузы-каленное общение с ней, представляло собой естественный вид духовной взаимосвязи человека и природы. По словам Э. Алексеева, «пение для человека того душевного склада, который формировался ранним обществом, – такая же потребность, как и речь. Он пел не только на людях, но и для себя, не только бодрствуя, но и во сне, не только будучи здоровым, но и впадая в нервные расстройства. Язык песни был понятнее духам, с которыми люди общались, как общаются с соплеменниками [1]». Т. В. Чередниченко отмечала, что в архаичных культурах, где господствовал миф, человек проецировал себя на природу, и потому музыка являлась «и дубликатом человека, и частью универсума [13, с. 137]».
Таким образом, можно констатировать, что в современной культуре существует два разных понимания звука: восточное и западноевропейское. Европейский вариант представляет философию певческого звука, которая исходит из понимания границы своего тела, отграничении себя («Я-Ты»), соотнесения с беспредельным окружающим пространством. Певческий звук, таким образом, сориентирован на движение от телесного источника в окружающий мир, а его познание сосредотачивается на отношении телесного источника и окружающей его реальности. Восточная философия певческого звука зиждется на ощущении «вписанности» в окружающий многоликий мир («Я-Я»). Пространство певческого звука сосредотачивает движение внутри себя самого, в бесконечно раскрывающихся звуковых подпространствах возникающих обертонов. Соответственно, в методологическом подходе к изучению певческого звука можно констатировать два больших направления. Первое – это постижение звука через бесконечное вслушивание и распознавание его значений в ходе слухового восприятия в результате сосредоточенности на информативности тембра, на его бесконечном раскрытии. Здесь мысль коррелирует с процессом распознавания звука-сигнала, который описал М. А. Арановский [2]. Отношение к звуку характеризуется высокой долей конкретности чувственного восприятия акусти- ческой обертоновой формы существования певческого звука в материальном бытии. Здесь интересно движение, изменение самих обертонов, их появление, исчезновение, сочетание, то есть бытие самого звука. Это певческие культуры Античной Греции, Древнего и современного Востока, Индонезии. В изучении певческого звука интересна именно тем-бральная аура и скрытая энергетика звучания.
Второе направление, большей частью характеризующее западноевропейское проблемное поле исследований по музыкальному звуку, – это некое абстрагирование от изучения ауры певческого звука и сосредоточенность на его смысловых взаимосвязях, отношениях, комбинациях отдельных звуков, то есть на их совместном бытии. Таким образом, отношение к звуку как самоцели (Восток) и отношение к звуку как средству (Запад) порождают разные онтологии звука, и подходить к изучению мировых певческих культур необходимо, учитывая это важное обстоятельство. Необходимо отыскать критерий, по которому можно обратиться к более глубоким основаниям певческих культур, и с этих позиций попытаться выявить и обосновать их различия. Полагаем, что таким критерием является певческий звук, который обладает рядом особенных качеств.
Осмысляя важнейшие качественные признаки певческого звука, опираясь на философские и теоретические работы «Исток художественного творения» (М. Хайдеггер) и «Природа невыразимого в искусстве и культуре» (Е. В. Синцов), мы пришли к выводу, что певческий звук представляет собой уникальный феномен, вбирающий в себя онтологические качества человеческого бытия – художественность и связанность с «невыразимым». Качество художественности он обретает в связи с тем, что способен выстраивать многочисленные связи человека и мира, «восставлять мир», представляя собой «художественное творение» (М. Хайдеггер [11]). Связь с «невыразимым» – это отприродное качество любого художественного феномена, что доказывается в концепции «невыразимого» и связанной с ней теории самодвижения художественного творения, предложенной Е. В. Синцовым. Учёным анализируются не только формы и способы «явленности» «невыразимого» в произведениях искусства, но и указан главный, с точки зрения автора, «источник» появления «невыразимого»: «психоидное бессознательное», скрытый в нём «избыток» мыслежестовой активности [10].
Е. В. Синцов доказывает, что психо-идное бессознательное, будучи средоточием первичных телесных переживаний от встреч человека с физическим пространством мира (тактильные, вкусовые, звуковые и т.п. ощущения), хранит в себе не только такого рода «память». В процессе человеческой эволюции новым слоем психоидного бессознательного становятся не только реальные жесты (касание, поглаживание, давление и т.п.), но и жесты воображаемые1 [10].
1 Например, такие первые реальные движения посылает человеку звук голоса матери. Перемещение интонации её голоса вверх или вниз формируют у младенца представления о вертикальных, восходящих или нисходящих жестах, звучание её голоса тише или громче – о горизонтальных направлениях – приближающихся или удаляющихся жестах [17]. Мыслительный жест сохраняет лишь очень отдалённое сходство с реальным жестом. Его роднят с ним качества повторяемости и направленности.
Эти жесты концентрируются вокруг трёх основных органов тела, наиболее богатых жестовым потенциалом: руки, речевой аппарат и гениталии [16]. Соответственно, это рукоподобные жесты, напоминающие ощупывающие или отграничивающие движения руки, ротоподоб-ные жесты, напоминающие движение перемещаемой во рту пищи, и сексуальноподобные жесты. Это находит проявление в трёх типах орнаментирования: «мелькающем» (сексуально-подобном, основанным на однообразном переносе фрагмента), «ощупывающем» (заполнение пространства вокруг относительно определённого центра) и «ротоподоб-ном» (совмещение двух первых типов).
Исходя из рассмотрения певческого звука как художественного феномена, тесно связанного с психоидным бессознательным, мы исследовали возможности мыслежестовой активности психо-идного бессознательного, направленной на внешнюю расположенность певческого звука в окружающем пространстве (экстравертная направленность звука) и на внутреннее пространство звука (интровертная направленность звука).
Анализ привёл к следующим результатам. Экстравертная «художественная расположенность» певческого звука в окружающем пространстве всегда подобна жестовому ощупыванию, захвату, обладанию, то есть некоему утверждению своего присутствия, оставлению звукового следа. Характер этого следа зависит от оттенков духовно-жестового потенциала психоидного бессознательного (рукоподобного, мелькающего, ротоподоб-ного). Экстравертный звук сосредоточен на этапе звучания. Именно в нём он реализует пластифицирующие возможности мыслежестовой активности психоидного бессознательного и проявляет себя как многослойная орнаментально-подобная структура, включающая ауру психической энергии, ритмическую структуру, слышимые и неслышимые потоки тем-бральной звуковой расположенности, стягивает к себе пространства других звуков, возможности речи, театрального действия, пространство слушательского интереса и т.п. Таким образом, стремясь к бесконечным симбиозам, экстравертный певческий звук достигает «восстав-ления» всех связей человека с миром. Пример певческого звука экстравертной направленности являет западноевропейское бельканто. Оно характеризуется нацеленностью рождающегося звука на «захват» окружающего пространства, распространение звучания на большую территорию.
В отличие от западноевропейской ветви певческой культуры, звуковое движение в восточном звуке удерживается на границе предзвучания и собственно звучания. Пластифицирующая активность мышления в восточных певческих культурах направлена преимущественно на «орнаментирование» внутреннего пространства самого звука, на дифференциацию его многочисленных «слоев» («изузоривание», варьирование каждого нижнего слоя более высоким). Для этого создаётся предельно сложный по своим структурам звук и культивируется процесс взаимодействия таких слоёв в разных формах. В результате даже отдельный звук становится своеобразной моделью, призванной отразить взаимодействие мыслежестов, направленных друг на друга в психоидном бессознательном. Е. Блаватская описывает певческую зву- ковую технологию, данную в древних китайских трактатах, как пластификацию друг другом разнообразных шести слуховых впечатлений: от сладостного голоса соловья до звука трубы, постигаемых певцом, в результате которой они перестают быть слышимыми, им на смену приходит звук «Нада» [5].
Таким образом, предложив подход к исследованию различных культур с точки зрения певческого звука как феномена, связанного с онтологическими качествами человеческого бытия – художественностью и атрибутом «невырази- мого», мы пришли к следующему выводу. Певческий звук проявляет свою художественность в этих культурах по-разному – в «восставлении» всех связей с внешним миром как художественное творение – в случае западноевропейской культуры, и в раскрывании «истока» художественного творения – в восточной культуре.
В данном заключении можно узреть глубинную причину различий певческих культур и обозначить критерий, объединяющий, казалось бы, полярные певческие культуры, – им является певческий звук.
Список литературы Некоторые аспекты западноевропейской и восточной онтологий певческого звука
- Алексеев Э. Е. Раннефольклорное интонирование: Звуковысотный аспект: автореферат дис.. доктора искусствоведения: 17.00.02 / Алексеев Эдуард Ефимович; ВНИИ искусств. Москва, 1991. 40 с.
- Арановский М. Г. О психологических предпосылках предметно-пространственных представлений // Проблемы музыкального мышления: сборник статей / сост. и ред. М. Г. Арановский; АН СССР. Науч. совет по истории мировой культуры. Комис. комплексного изучения худож. творчества. Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. Москва: Музыка, 1974. С. 252-272.
- Васильченко Е. В. Музыкальные культуры мира: Культура звука в традиционных восточных цивилизациях (Ближний и Средний Восток, Южная Азия, Дальний Восток, ЮгоВосточная Азия): учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 520100 Культурология и направлению 522600 Востоковедение, африканистика. Москва: Изд-во РУДН, 2001. 408 с.
- Гачев Г. Национальные образы мира. Общие вопросы. Русский. Болгарский. Киргизский. Грузинский. Армянский. Москва: Советский писатель, 1988. 396 с.
- Голос безмолвия. Семь врат. Два пути. Отрывки из «Книги золотых правил» [Электронный ресурс] / обнародовано Е. П. Блаватской; перевод с английского Е. Ф. Писаревой под ред. K.Z. URL: http://www.theosophy.ru/lib/golos.htm