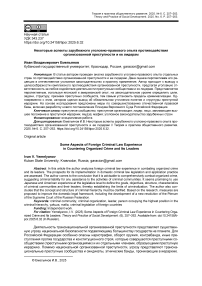Некоторые аспекты зарубежного уголовно-правового опыта противодействия организованной преступности и ее лидерам
Автор: Емельянов И.В.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 6, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье автором проведен анализ зарубежного уголовноправового опыта отдельных стран по противодействию организованной преступности и ее лидерам. Дана оценка перспективам его рецепции в отечественное уголовное законодательство и практику применения. Автор приходит к выводу о целесообразности комплексного противодействия организованной преступности, предлагая уголовную ответственность за любое содействие деятельности преступным сообществам и их лидерам. Представляется перспективным, используя японский и американский опыт, на законодательном уровне определить цели, задачи, структуру, признаки преступных сообществ, тем самым установить пределы криминализации. Одновременно с этим, автором сделан вывод об обязательном уточнении понятия и структуры преступной иерархии. На основе исследования предложены меры по совершенствованию отечественной правовой базы, включая разработку нового постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Преступное сообщество, преступная организация, лидер, лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, якудза, мафия, уголовное законодательство зарубежных стран
Короткий адрес: https://sciup.org/149148469
IDR: 149148469 | УДК: 343.237 | DOI: 10.24158/tipor.2025.6.32
Текст научной статьи Некоторые аспекты зарубежного уголовно-правового опыта противодействия организованной преступности и ее лидерам
В отдельных субъектах Российской Федерации в зависимости от географических, социально-политических факторов, преобладает влияние тех или иных преступных сообществ, например, регионы Дальнего Востока подвержены криминально-политическому влиянию этнических преступных групп, а также триад и якудзы (Зеленская, Самсонов, 2010: 13‒19).
На Дальнем Востоке среди лидеров криминальных сообществ исследователи выделяют так называемый «Дальневосточный воровской общак» – консолидацию преступных организаций, объединившихся на рубеже 90‒00-х гг. с целью организации наркобизнеса, проституции, торговли людьми, контрабанды товаров из Японии и Китая (Гамерман, 2022: 70).
Помимо этого, крупным влиянием в регионе обладают чеченские, азербайджанские этнические преступные сообщества (Баранник, 2013: 73–83). Что касается японской якудзы, то представители данного преступного сообщества по указанию своих лидеров регулярно пытаются распространить свое влияние на регионы Дальнего Востока. Они осуществляют контрабанду морепродуктов, автомобилей, иной техники, организовывают незаконную миграцию в российские регионы.
Говоря о японском опыте противодействия организованной преступности, отметим, что якудза является достаточно острой транснациональной проблемой. Первое нормативно-правовое регулирование противодействия организованной преступной деятельности выработано в Японии еще в 1922 г., а актуальные изменения в УК Японии были приняты в 90-е гг. прошлого века – приложение № 1 к кодексу. Под организованной преступной деятельностью японский законодатель понимает банду, которая создана с целью содействия ее членам в совершении регулярных коллективных преступлений для улучшения своего материального состояния (ст. 2, 3 Приложения к УК Японии)1.
Законодатель разграничивает структуру в преступной иерархии Японии, выделяя в бандах структурные подразделения и разделяя их на «простые» и «открыто выделенные». В последних лидер (руководитель) преступного сообщества и его члены имеют активное преступное прошлое, используют свое влияние для улучшения материального положения и осуществления предпринимательской деятельности.
Меры уголовно-правового противодействия лидерам преступных сообществ в Японии заключаются в привлечении к уголовной ответственности их за совершение преступлений, совершенных рядовыми членами, фактически вне зависимости от того, знал об этом лидер или нет. Подобная форма коллегиальной ответственности выражается в том, что, создавая преступное сообщество, лидер якудзы осознает, что целью деятельности всех членов сообщества будет совершение преступлений (Анкоси, 2021: 89–93).
Следовательно, знание или незнание лидера о конкретном преступлении не имеет значения для квалификации. Дополнительно уголовной ответственности подлежат любые лица, оказывающие содействие членам якудзы в любой форме. Механизмы уголовно-правового противодействия якудзе и ее лидерам во многом схожи с отечественной практикой противодействия террористическим и экстремистским сообществам, когда криминализовано любое пособничество их деятельности. Данный прием позволяет эффективно противодействовать преступному сообществу, парализуя его функционирование, то есть законодатель и правоохранительная система не просто криминализует его статус, но и дополнительно создает барьеры для любой деятельности – организационной, финансовой, технической, кадровой, что снижает эффективность и экономическую целесообразность самого сообщества. В отечественной практике отсутствует подобная система противодействия организованной преступности и ее лидерам как субъектам, обладающим особым статусом, поэтому видится перспективной рецепция японского опыта с учетом национальных уголовно-правовых традиций, унификация механизма противодействия преступным сообществам вне зависимости от их формы. Это связано с тем, что с течением времени якудза трансформировалась в сложнейшие и глубоко законспирированные транснациональные финансовые корпорации, поэтому традиционные формы и методы противодействия начинают носить архаический характер и значение. Насильственные преступления сменяются мошенничеством и иными видами преступной деятельности, что схоже с ситуацией в России.
Так, согласно статистическим показателям МВД РФ, «организованными группами или преступными сообществами совершено 36,1 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+17,1 %), причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 11,6 % в январе-декабре 2023 г. до 13,8 %»2.
Вместе с тем японская преступная иерархия имеет общие черты с отечественным преступным миром, в частности, исторически выработанную систему неписанных правил и обязательств – кодекс, который все участники преступной иерархии обязаны беспрекословно соблюдать. Якудза, как и итальянская мафия, сформирована по консервативному принципу патриархальной семьи, поэтому роль криминальных традиций, а, следовательно, лидеров, выступающих в роли арбитров, крайне высока (Виденькина, Юдина, 2018: 88).
Обратимся к китайской модели уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью, тесно взаимосвязанной с Россией. По данным китайских исследователей, организованные транснациональные китайские преступные сообщества (триады) уверенно функционируют на российской территории, осуществляя торговлю людьми, похищения, организацию незаконной миграции, контрабанду леса и других природных ресурсов в Китай1.
Китайский опыт противодействия строится на синергетическом подходе под названием «шэхуй чжиань цзунхэ чжили» и предполагает совокупность политических, воспитательных, превентивных и уголовно-правовых мер, то есть создание в обществе атмосферы нетерпимости к преступности, жесткий контроль за ней и выдавливание деятельности организаций из любых общественных отношений (Хэ Цзэнкэ, 2005: 142). Ст. 294 УК Китая предусматривает уголовную ответственность за создание и организацию преступных сообществ, при этом статус организатора и руководителя сообщества различается. Цель деятельности преступного сообщества – экономическая выгода и незаконная экономическая деятельность, контроль районов или серьезное влияние в них, нарушение экономического уклада и общественной жизни2. При этом статья помещена законодателем в раздел «Преступления против общественного порядка» главы 6 «Преступления против порядка управления и общественного порядка». Отсюда следует закономерный вывод – государство воспринимает организованную преступность и лиц, занимающих высокую роль в ней, как политическую и суверенную угрозу.
В отличие от отечественного уголовного законодательства в КНР криминализовано специальным составом преступления покровительство со стороны государственных служащих представителям преступных сообществ (ст. 294 УК КНР).
В качестве примера рассмотрим еще одно государство – США, которое уже более века активно противодействует различным формам организованной преступности. В настоящее время организованная преступность в этой стране представляет собой большое количество этнических и религиозных разрозненных преступных групп, имеющих ярко выраженных лидеров и руководителей, обладающих серьезным влиянием в преступном мире. Вместе с тем преступная деятельность в США и сферы влияния лидеров в преступной иерархии в целом совпадают с аналогичной криминальной практикой в России: наркотрафик и производство наркотических средств и прекурсоров, торговля людьми и незаконный оборот оружия, организация проституции и незаконной миграции (Shelley, 2010).
США захлестнула организованная преступность примерно в один и тот же исторический период, что и СССР, – на рубеже 20‒30-х гг., когда были сформированы профессиональные мафиозные сообщества, угрожающие национальной безопасности штатов. Вследствие этого организованная преступность проникла на все ступени вертикали власти – сенат, суд, правоохранительные органы (Фролов, Портнов, 2021: 149).
В результате в 1968 г. на голосовании в Конгрессе был принят Закон «Об установлении контроля над уличной преступностью» (Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 19683), расширяющий полномочия полиции и ФБР по противодействию организованной преступности, бандитизму, путем предупреждения совершения новых преступлений, в частности, полиция получила особые полномочия по собиранию доказательств, возможность проведения негласных мероприятий в виде подслушивания телефонных и иных переговоров (Быков, 2009: 137).
Через два года в Конгрессе принимается еще более радикальный закон, известный в широкой практике как акт RICO4, который направлен на борьбу с организованной преступностью. Политический истеблишмент и представители уголовно-правовой науки четко определили цель руководителей преступных иерархий – незаконное получение сверхприбыли и противоправное обогащение1. Таким образом, закон направлен на сознательное торпедирование всех финансовых операций и процессов преступных сообществ. Он стал основой для формирования последующего регионального законодательства штатов по борьбе с организованной преступностью2.
Закон RICO впервые в истории США дает уголовно-правовую характеристику структуре организованной преступности, выделяя ее лидеров, нижестоящих и рядовых членов преступной деятельности, что позволяет привлекать к уголовной ответственности не только субъектов-исполнителей (солдат), но и пособников, подстрекателей, организаторов. Обобщенно структура преступной иерархии в организованных преступных сообществах (американской мафии) выглядела следующим образом (Albanese, 2004):
– глава группировки (босс мафии или босс боссов);
– советник – консильери;
– подручные;
– капореджиме – лидеры отдельных небольших команд исполнителей в преступном сообществе;
– солдаты – исполнители.
Что касается американо-итальянского опыта противодействия преступным сообществам и их руководителям в мафии, то действия лидеров мафии сводятся к следующим принципам (Catino, 2019):
-
– абсолютный приоритет интересов «семьи», которая носит не кровнородственный, а закрытый непубличный характер криминального сообщества;
-
– строгое соблюдение морального кодекса поведения, который распространяется исключительно на «семью» и правила поведения с другими мафиозными «семьями»;
-
– государственный характер управления – формирование глубинного государства, параллельного государственным институтам, теневой экономики, собственной службы безопасности и репрессивного аппарата насилия;
-
– контроль и борьба за сферы влияния на территории.
Мафия в настоящее время дифференцируется на два основных течения – сицилийская мафия (Cosa Nostra) и итало-американская мафия (La Cosa Nostra) и направлена на получение политического влияния посредством реализации своей противоправной экономической деятельности. Общим в мафии является складывание консорциума лидеров – боссов мафии, собрания боссов боссов или боссов «семей», что является примерно аналогичной практике воровских сходок. Уголовная ответственность за участие в мафиозном сообществе предусмотрена ст. 416 УК Италии, согласно которой преступное объединение имеет мафиозный характер (признается мафией), когда ее участники используют силу устрашения, вытекающую из самой принадлежности к ассоциации, и состояние подчинения и молчания, чтобы совершать преступления, получать прямо/косвенно управление/контроль над экономической деятельностью, концессиями, разрешениями, государственными контрактами и услугами, или для получения незаконных прибы-лей/преимуществ для себя или других, либо с целью воспрепятствовать/затруднить свободное осуществление избирательного права или обеспечить голоса для себя или других на выборах3.
При этом необходимо учесть, что во многом, за исключением итальянской мафии, зарубежный опыт противодействия преступным сообществам, иерархии, лицам с особым преступным статусом коррелируется с отечественным «воровским кругом» и традициями, которые не только соблюдались неукоснительно, но и со временем приобрели формат «воровского закона», насчитывающего немало положений, определяющих, что имеет или не имеет право делать «вор в законе», например:
-
– категоричное и безусловное исполнение воровских правил, традиций, арестантского уклада и быта;
-
– добровольный мораторий на возможность завести семью и детей (отметим, что это ограничение было основой советского воровского сообщества, преступные лидеры «новой волны» нередко пренебрегают подобного рода условиями);
-
– запрет на сотрудничество и любые контакты с правоохранительной системой в любом оперативном или следственном формате – агент, потерпевший, свидетель. Невозможность сотрудничества в качестве подозреваемого или обвиняемого;
-
– лидеры преступных сообществ, в том числе находящиеся в исправительных учреждениях, не отягощают себя любой трудовой деятельностью, что считается недостойным занятием для их высокого криминального ранга;
-
– принципиальное и идейное отрицание норм и правил, принятых в традиционном некриминальном обществе (Глонти, Лобжанидзе, 2004: 84).
Учитывая большое влияние «воров в законе» в российской криминальной практике, необходимо проанализировать также опыт Республики Грузия по противодействию организованной преступности и ее лидерам. Специфической особенностью грузинского законодателя, в отличие от отечественного, в части уголовно-правового регулирования является сужение статуса лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии до непосредственного ранга «вор в законе» (Куфлева, 2012: 29).
Отличительной особенностью национальной законодательной конструкции является то, что в таком случае ограничивается статус лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, именно рангом «вора в законе», а также сознательно избегается практика использования «жаргонной» или криминальной лексики в официальных нормативно-правовых актах и документах. Таким образом, в российском уголовном праве к лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, могут относиться и лидеры иных преступных сообществ (преступных организаций) – террористических, политических, экстремистских и т. д.
Следовательно, им необязательно иметь статус «вора в законе», однако практика, к сожалению, в данный момент идет по обратному пути.
Грузинское законодательство более детально регулирует статус руководителя преступного сообщества в отдельных законодательных нормах, делая статью 223.1 УК Республики Грузия бланкетной, отсылая к Закону от 20.12.2005 № 2354 «Об организованной преступности и рэ-кете»1, где подробно описываются понятие и признаки преступного сообщества, его структура и руководящие статусы.
Российский законодатель пока не сформулировал определение лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, и не смог выработать соответствующий федеральный закон, поэтому научные и правоприменительные дискуссии столь активны и полярны.
Наряду с этим, криминальный мир постсоветского пространства и Восточной Европы открыто тяготеет к практике использования ранга «вор в законе» в качестве лидера преступной иерархии, такими же практиками пользуются «славянские» или «русские» преступные группировки, которые после формирования в 90-е гг. распространили свое влияние за пределы Российской Федерации на страны Центральной и Западной Европы и Северной Америки.
Таким образом, прослеживается наглядное отличие в механизме уголовно-правового противодействия в Японии, США, Грузии и Российской Федерации.
В отечественной законодательной традиции определение структуры преступной иерархии, понятие, сущность, роль и количество членов отдается на откуп следственно-судебной практике, что, по сути, привносит в российскую правовую ткань элементы судебно-следственной практики как источника права. На наш взгляд, отсутствие нормативного определения понятия и структуры преступной иерархии является существенным пробелом в правовом регулировании противодействия лидерам криминального мира. В частности, в США и Японии законодатель четко разграничил руководителей и членов преступных сообществ, дифференцировав их статус и криминальную роль.
В Российской Федерации на данный момент фактически не существует единообразной преступной иерархии, так как отсутствует единое преступное сообщество, то есть не существует одного преступного мира со строгой подчиненностью и одной вертикалью. Преступное сообщество является условным социальным критерием как сообщество любого социального класса, то есть носит абстрактный характер. Преступная иерархия, в свою очередь, также отлична, то есть у каждого ее руководителя, в том числе «вора в законе», имеется собственноручно выстроенная им структура, созданная на основе его личных взглядов, криминальных традиций и эмпирического опыта, безусловно, имеют место быть общие архитипичные черты, однако они вторичны.
В то же время нельзя не учитывать наличие иных видов преступных сообществ – террористических, экстремистских, диверсионных, что позволяет судить о неоднородности преступных организаций, их целей, которые дифференцируются не только на экономические, но и на политические, религиозные, военные и т. д. Такая структура предполагает различные задачи и функционал, особый статус лиц, занимающих в преступной иерархии высшее положение. Видится необходимым определить, все ли формы противоправных сообществ относятся к преступной иерархии или же нет.
К тому же наличие большого количества различных преступных группировок априори нивелирует единую преступную иерархию и преступное сообщество, так как в них не имеется единого органа управления, структуры и уставных (программных) документов. Все эти сегменты создают крайне разрозненную и неоднородную преступную иерархию в Российской Федерации, что в том числе влияет и на сложившуюся следственно-судебную практику. Исходя из этого, в первую очередь, в том числе на основе зарубежного уголовно-правового опыта, необходимо определить понятие преступной иерархии, ее признаки и структуру с целью упрощения правоприменения ст. 210 УК РФ и ст. 210.1 УК РФ.
Как показал зарубежный уголовно-правовой опыт, преступный мир в США, КНР, Японии, Грузии, Италии представляет собой хаотически сложившуюся совокупность разрозненных самостоятельных преступных групп, сообществ, влиятельных субъектов криминалитета, которые тесно связаны между собой и имеют неформальную иерархию. По мнению автора, преступная иерархия, хоть и представляет собой неоднородную, относительно стихийную структуру, подлежит научно обоснованной унификации, что позволит эффективнее применять в практике положения ч. 4 ст. 210 УК РФ и ст. 210.1 УК РФ.
Видится перспективным определение преступной иерархии как совокупности криминальных элементов – лиц с особым криминальным статусом (не обязательно статусом «вора в законе»). При этом важно понимать, что лидер преступного сообщества, криминального мира всегда должен быть руководителем, так как авторитет может носить неформальный характер, а должность руководителя – формальна, будучи конспиративной. Данные субъекты способны оказывать влияние на процессы как в легальной, так и нелегальной сфере общества, что в целом корреспондирует с зарубежным опытом уголовно-правового противодействия организованной преступности. При этом высокую роль в преступной иерархии могут занимать и отдельно взятые влиятельные представители криминального мира, не являющиеся членами или руководителями преступных организаций, но аффилированные с ними («воры в законе», «авторитеты», иные). В целях повышения эффективности правоприменительной практики представляется закономерной разработка и принятие нового Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, разъясняющего участникам уголовного судопроизводства основные положения диспозиции ст. 210 и ст. 210.1 УК РФ взамен действующего от 10.06.2010 № 12.