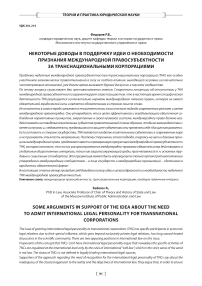Некоторые доводы в поддержку идеи о необходимости признания международной правосубъектности за транснациональными корпорациями
Автор: Федоров Р.В.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 1 (54), 2019 года.
Бесплатный доступ
Проблема наделения международной правосубъектностью транснациональных корпораций (ТНК) как особых участников экономических правоотношений в силу их особого влияния, выходящего за рамки исключительно частноправовых отношений, уже долгое время вызывает бурные дискуссии в научном сообществе. По этому вопросу существует два противоположных мнения. Сторонники концепции об отсутствии у ТНК международной правосубъектности аргументируют свою позицию тем, что в настоящее время специфическая деятельность ТНК регулируется исключительно нормами международного «мягкого права», которое не имеет обязательной юридической силы и является обязательным в строгом смысле слова. Их оппоненты в свою очередь заявляют о несоответствии классического подхода современным реалиям и целям международного правопорядка. Они утверждают, что в целях эффективного и всеобъемлющего обеспечения со- блюдения нормативных принципов, закрепленных в своей правовой системе, международное право должно воз- действовать на поведение влиятельных субъектов правоотношений таким образом, чтобы во взаимодействии с менее сильными и, следовательно, нуждающимися в защите субъектами они проявляли себя «дисциплинированно». Если оставить в стороне государства, ТНК являются наиболее влиятельными субъектами в современном мире и не признавать эту власть неправильно. Поэтому сторонники этого подхода, опираясь на цели и базовые прин- ципы международного права, предлагают ввести опровержимую презумпцию международной правосубъектности ТНК, которая означает, что на них распространяются международно-правовые обязательства действовать в глобальных общественных интересах, таких как защита окружающей среды, прав человека (в т.ч. основных тру- довых и социальных стандартов). Эта презумпция может быть опровергнута только путем противоположного утверждения международным сообществом - в лице государств и международных организаций - сделанного в юридически обязательной форме. В настоящей статье автор приводит ряд доводов в пользу идеи о целесообразности и необходимости наделения ТНК международной правосубъектностью.
Международная правосубъектность, транснациональные корпорации, всеобщие публичные интересы
Короткий адрес: https://sciup.org/14120289
IDR: 14120289 | УДК: 341.215
Текст научной статьи Некоторые доводы в поддержку идеи о необходимости признания международной правосубъектности за транснациональными корпорациями
PhD in Law, Associate Professor of Chair of Theory and History of State and Law of the Moscow Institute of Public Administration and Law
SOME ARGUMENTS IN SUPPORT OF THE IDEA ABOUT THE NEED
TO ADMIT INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY FOR TRANSNATIONAL
CORPORATIONS
The iss e of granting international legal personality to transnational corporations (TNCs) as specific participants in economic legal relations d e to their special infl ence, which goes beyond excl sively private legal relations, has long ca sed heated disc ssions in the scientific comm nity. There are two opposing positions in international law on this iss e.
Proponents of the concept that TNCs’ can’t have international legal personality arg e that nowadays the specific activities of TNCs are reg lated at the international level only by the r les of international “soft law”, which in the strict sense of the word is not law. The stat s of TNCs is not defined in legally binding international legal so rces.
S pporters of the approach regarding the need of recognition for the international legal personality of TNCs say abo t the inadeq acy of the classical approach to the reality and the objectives of international law. They arg e that, in order to ens re effective and comprehensive compliance with the normative principles of legal system, international law m st reg late the cond ct of infl ential actors in legal relations in s ch a way that, in interaction with less powerf l s bjects, they manifest themselves “in a disciplined manner”. Leaving aside the state, TNCs are the most powerf l actors in the world today and it wo ld be wrong not to recognize that power.
Therefore, the proponents of this approach, based on the basic principles of international law and its objectives, propose to introd ce a reb ttable pres mption of international legal personality of TNCs, which means that they m st comply with international law to act in the global p blic interest, s ch as the protection of the environment, h man rights (incl ding basic labo r and social standards). This pres mption can be reb tted only by the contrary assertion of a legally binding form by the international comm nity – represented by States and international organizations.
In this article, the a thor gives a n mber of arg ments in favor of the idea of expediency and necessity of granting international legal personality to TNCs.
С егодня некоторые многонациональные корпорации обладают большей экономической мощью, чем многие государства, в связи с чем становится вполне понятно, почему эти образования обычно считаются одним из основных, а возможно, важнейшим феноменом современной международной экономики. Кроме того, эта категория негосударственных субъектов обычно рассматривается в качестве одной из «движущих сил», «локомотива» различных процессов глобализации. Однако транснациональные корпорации являются влиятельными участниками нынешней международной системы не только с чисто экономической точки зрения. Напротив, они также все в большей степени участвуют, хотя и в большинстве случаев все еще косвенно, в международном нормотворчестве, а также в правоприменительном процессе, внося тем самым значительный вклад в «присущую современному партнерству неоднородность в области международного нормотворчества и международного права» [1]. Многонациональные корпорации играют ключевую роль, в частности, в принятии соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Кроме того, эти субъекты (это всего лишь один пример) часто участвуют в различных этапах процедур Всемирной торговой организации (ВТО) по урегулированию споров – это событие уже было надлежащим образом охарактеризовано как эволюция «государственно-частного партнерства в судебных процессах ВТО» [2].
Возрастающая роль многонациональных корпораций как экономических и политических субъектов на международной арене создает двоякую ситуацию: с одной стороны, увеличиваются возможности для продвижения публичных интересов, известных также как всеобщие публичные интересы, например, охрана окружающей среды и защита прав человека, а также обеспечение соблюдения основных трудо- вых и социальных стандартов, в то же время, с другой стороны, деятельность ТНК может порождать значительные риски для вышеперечисленных благ. Так, эти негосударственные субъекты в силу своего потенциального влияния на страны базирования, а также принимающие страны могли бы в ходе своей экономической и политической деятельности вносить эффективный вклад в обеспечение соблюдения вышеупомянутых интересов международного сообщества. С другой стороны, транснациональные корпорации могут препятствовать глобальному процессу защиты окружающей среды, а также прав человека– ТНК могут осуществлять такое негативное воздействие либо непосредственно в силу своего собственного поведения, либо косвенно – посредством оказания поддержки определенным государственным субъектам либо отдельным политикам (такое воздействие особенно эффективно в рамках диктаторских, репрессивных режимов развивающихся государств).
В виду этого, казалось бы, довольно противоречивого потенциала транснациональных корпораций в области защиты и поощрения глобальных общественных благ, возникает вопрос: являются ли эти негосударственные субъекты, в дополнение к их очевидно влиятельному положению на практике в нынешней международной системе, также и интегрированными в международно-правовое поле? Если это так, то на ТНК следует возложить, обязанность защищать прав человека, социальные и трудовые стандарты, экологию. Или все же транснациональная корпорация – как считают некоторые зарубежные исследователи – «остается вне палатки» («outsidethetent»), выражаясь терминологией международного права [3]. Учитывая огромное значение этого вопроса для научных исследований векторов развития и последствий происходящих процессов глобализации, неудивительно, что в настоящее время ведутся интенсивные дискуссии, о
Как цитировать статью: Федоров Р.В. Некоторые доводы в поддержку идеи о необходимости признания международной правосубъектности за транснациональными корпорациями // Вестник Академии права и управления. 2019. № 1(54). с. 91–96
чем свидетельствует постоянно растущее число научных статей и обзоров по вопросам необходимости и возможности привлечения транснациональных корпораций к ответственности за деятельность, касающуюся глобальных интересов международного сообщества. Добавляя ряд новых мыслей, настоящая статья призвана внести свой малый вклад в продолжающееся обсуждение этого вопроса.
Согласно до сих пор преобладающему мнению, не все субъекты, участвующие в международных отношениях (в публично-правовом смысле), могут быть признаны субъектами международных правоотношений несмотря на то, что они оказывают существенное влияние на международное общество. Международная правосубъектность требует признания участника правоотношения путем предоставления такому юридическому лицу международных прав и обязанностей. Большинство специалистов в области международного права признают, что нет принципиальных причин, по которым негосударственные образования не могли бы быть наделены международной правосубъектностью. Однако среди ученых-международников по-прежнему преобладает мнение о том, что ТНК не могут рассматриваться в качестве субъектов международного права в том смысле, чтобы признать их адресатами международно-правовых обязательств по содействию реализации всеобщих публичных интересов [4].
Несмотря на то, что уже довольно давно в юридической литературе утверждается точка зрения, что международные договоры о правах человека не могут быть истолкованы как имеющие прямое применение к частным субъектам – таким, как многонациональные корпорации – большинство международных правоведов, приняв во внимание историю разработки соответствующих конвенций и используя телеологический способ толкования договора, достаточно убедительно доказали, что договоры по правам человека, а также большое число международных конвенций (например, направленных на борьбу с взяточничеством) не налагают прямых обязательств ни на какое другое образование, кроме государств-участников конкретной конвенции. Таким образом, несмотря на отдельные примеры из юридической практики, например такие, как попытки возложения обязанностей по обеспечению соблюдения вышеуказанных обязательств в области прав человека в отношении транснациональных корпораций в национальных судах США, а также в области создания так называемого «мягкого права» – речь идет о принятии 13 августа 2003 года подкомиссией ООН по поощрению и защите прав человека «норм, касающихся обязанностей транснациональных корпораций и других предприятий в отношении прав человека» (на который, впрочем, подкомиссией был получил достаточ- но «прохладный» ответ комиссии по правам человека от 20 апреля 2004 года), нельзя не согласиться с вышеуказанным преобладающим среди специалистов мнением, что транснациональные корпорации не имеют ни в праве международных договоров, ни в области обычного международного права (за небольшим исключением)четкого нормативного признания со стороны государств и международных организаций по вопросу возложения международно-правовых обязательств.
Однако, в свете меняющейся структуры международной системы, стремясь выявить нормативные обязательства влиятельных негосударственных субъектов на международной арене, представляется все более сомнительным такой классический подход к вопросу о возможности наделения транснациональных корпораций международной правосубъектностью, то есть наделению их гарантированными государствами правами и обязанностями, основанными на международно-правовых нормах.
Отправной точкой этой критики является широко распространенное мнение о том, что нормативная сила международного права основывается на необходимости установления такого правового порядка [5], в рамках которого основным стремлением будет являться «удовлетворение общих потребностей и умиротворение общественной жизни» [6]. Таким образом, основополагающей целью международного правопорядка является обеспечение международной стабильности, минимизация споров и предотвращение произвольного применения силы. Основываясь на так называемой концепции «позитивного мира», это умиротворение международных отношений охватывает также и защиту прав человека иокружающей среды, а также созданиеусловий социальной справедливости. Поэтому, трансформируясь в так называемый «всеобъемлющий план общественной жизни» [7], международное право становится все более независимым от воли и интересов отдельных государств. Скорее, его материально-правовые нормы все больше сосредоточиваются на реализации интересов мирового сообщества в целом, продвижении глобальных общественных благ – на процессе, который по веским причинам уже получил название «конституционализация международного права». Механизмы обеспечения соблюдения ценностей «позитивного мира», должны быть закреплены в самом международном правопорядке, т.к. «система мира, которая не является в то же время системой права, не может существовать» [8].
Признание международной правосубъектности должно быть ориентировано на основные цели, преследуемые международным правовым порядком, а также на меняющиеся социологические условия на международной арене. Поскольку главная функция международной правосубъектности заключается в том, чтобы быть техническим средством реализации материальных ценностей международного правопорядка, международное право, в том числе по обсуждаемому вопросу, не должно отдаляться от реальности, не должно терять практическую ориентацию. Поэтому, с одной стороны, международный правопорядок должен на общей правовой основе регулировать отношения между всеми де-факто влиятельными субъектами международной системы, поскольку функции упорядочения и умиротворения международного права сохраняются лишь в том случае, если на смену государственно-ориентированному пониманию приходит восприятие этого правового режима как Jusinterpotestates [9]. С другой стороны, в целях эффективного и всеобъемлющего обеспечения соблюдения нормативных принципов, закрепленных в его правовой системе, международное право должно таким образом воздействовать на поведение влиятельных субъектов правоотношений, чтобы во взаимодействии с менее сильными и, следовательно, нуждающимися в защите субъектами они проявляли себя «дисциплинированно». Таким образом, в первую очередь именно «через доктрину международной правосубъектности осуществляется построение системы международных ценностей» [10].
В свете этих выводов традиционный подход к вопросу о защите общественных интересов посредством определения нормативных обязанностей де-факто влиятельных негосударственных субъектов в международной системе – то есть, по вопросу международной правосубъектности транснациональных корпораций – уже не может рассматриваться в качестве адекватного современным реалиям. Как уже упоминалось выше, в соответствии с по-прежнему преобладающей в настоящее время доктриной, то есть в условиях явного отсутствия со стороны международного сообщества достаточной степени признания международной правосубъектности за транснациональными корпорациями посредством наложения государствами международно-правовых обязательств на такие юридические лица, невозможно считать эти влиятельные субъекты нормативно интегрированными в международный правопорядок до тех пор, пока на ТНК не будут возложены обязательства по содействию в продвижении и защите глобальных общественных благ. Однако такой подход, по которому мы не в состоянии подчинить всех значимых субъектов принципу «международного верховенства права», создает недопустимые пробелы и «создает ненужные риски для изначально хрупкой международной правовой системы» [11]. Если международное право ограничит правовой статус эффективных субъектов, это породит правовой вакуум, нежелательный как на практике, так и в принципе. Преобладающее на сегод- няшний день мнение не только противоречит характеру международного права как «реалистичной правовой системы», поскольку «если оставить в стороне государства, ТНК являются наиболее влиятельными субъектами в современном мире и не признавать эту власть было бы крайне нереалистично», но и более того, такой устаревший подход к доктрине международной правосубъектности транснациональных корпораций создает препятствия реализации глобальных общественных интересов, находящихся в центре нынешнего международного правопорядка. Метафорично выражаясь, такой подход к международному праву, будучи своего рода все еще «живым», но, тем не менее, не заслуживающим защиты «ископаемым», происходящим из так называемой «Вестфальской системы», противоречит вышеупомянутому эволюционному восприятию международного права как «всеобъемлющего плана общественной жизни». «Никакое накопление власти не должно оставаться бесконтрольным в рамках системы верховенства права», – как справедливо отметил Даниэль Тюрер это требование, продиктовано интересами международного сообщества, а не государственными интересами, доминирующими в традиционном мире международного права. Серьезные последствия такой международно-правовой методологии, которая для реализации лежащих в ее основе нормативных ценностей неадекватно учитывает социологические реалии в международной системе, были достаточно четко подчеркнуты в 1924 году Джеймсом Л. Брайерли: это означает, что мы признаем расхождения между законом и господствующими в обществе идеями справедливости, для реализации которых и были созданы законы; и мы уверены, что до тех пор, пока это расхождение будет существовать, закон будет дискредитирован [12].
Поэтому господствующий сегодня подход по вопросу международной правосубъектности ТНК не соответствует ни основной цели современного международного правопорядка, ни вытекающей из неё необходимости того, чтобы международное право в достаточной мере соответствовало меняющимся реалиям международной системы. Скорее, этот традиционный подход в какой-то степени игнорирует жизненно важную связь между вышеуказанной основой нормативной обязательности международного права и необходимостью предоставления международной правосубъектности транснациональным корпорациям, которую Крис Н. Океке лаконично сформулировал более тридцати лет назад следующим образом: «если бы международное право не влияло на развитие международных отношений и не регулировало их адекватно, оно бы утратило свою ценность» [13].
Если научное сообщество не решится сделать пусть и нежелательный для многих, но тем не менее справедливый вывод о необходимости пересмотра международного правопорядка для более эффективного достижения своих основных целей, то растущая неадекватность традиционного понимания международной правосубъектности неизбежно приведет к необходимости по крайней мере частичного переосмысления доктрины о субъектах международных правоотношений. На этом фоне нами будет предложен новый подход к формированию нормативной ответственности влиятельных субъектов международной системы – транснациональных корпораций. Хотя эта новая концепция, вероятно, сначала будет воспринята скептически, она представляется гораздо более подходящим доктринальным компонентом нынешнего международного правопорядка, по сравнению с преобладающей в настоящее время точкой зрения. Таким образом, утверждается также, что эта переориентированная доктрина субъектов не просто является предложением delegeferenda, но так этот подход находит свою нормативную основу в общепризнанной правовой концепции презумпций, он уже вписывается delegelata в нормативную структуру современного международного права.
Как уже было отмечено, реконцептуализация доктрины о международной правосубъектности основывается на восприятии международного правопорядка как системы «нормативно-правовых пре-зумпций»[14]. Структура международного права, по крайней мере в той же степени, что и большинство национальных правовых систем, уже в течение довольно длительного времени определяется нормативными презумпциями. Из многочисленных примеров, подтверждающих эту точку зрения, достаточно упомянуть некоторые правила толкования многоязычных договоров, например такие как: «презумпция против конфликта» в отношениях между сторонами заключившими международный договор; презумпция, что стороны международного договора действовали в соответствии с обязательствами, вытекающими из такого соглашения; презумпция о том, что меры, принимаемые органами международных организаций, соответствовали поставленным целям этой организации и органы не превысили своих полномочий, а также знаменитая – хотя это уже вряд ли совместимо со структурой нынешнего международного правопорядка – негативная презумпция, установленная Постоянной палатой международного правосудия по делу Lotus в отношении ограничений свободы действий государств.
Применяя эту концепцию и учитывая влиятельное положение ТНК в международной системе, видится обоснованным необходимость признания опровержимой презумпции, что на ТНК распространяются международно-правовые нормы, возлагающие обязанность действовать в общественных ин- тересах. Такой методологический подход позволит с убедительностью утверждать, что независимо от прямого наложения обязательств государствами через договорное или обычное международное право все взаимодействия между влиятельными субъектами в международной системе, а также их отношения с менее влиятельными субъектами primafacie подчиняется принципам международного права, обеспечивая тем самым, реализацию главной цели международного правопорядка – построение всеобъемлющей, эффективной и цивилизованной системы международных отношений. Лишь в отношении тех субъектов, которые не могут быть квалифицированы в качестве «достаточно влиятельных», существование международно-правовых обязательств по-прежнему будет зависеть от прямого установления их государствами через договорное или обычное международное право. Такой критерий классификации в настоящее время применяется к физическим лицам.
Эта презумпция может быть опровергнута только путем противоположного утверждения международным сообществом – в лице государств и международных организаций – сделанного в юридически обязательной форме, согласно которому соответствующая категория влиятельных субъектов не обязана, кроме прочего, защищать права человека, а также признанные экологические и трудовые нормы. Таким образом, решение об опровержении этой презумпции не должно приниматься по усмотрению каких-то отдельных государств или международных организаций. Такой подход приведет к тому, что на соответствующую категорию влиятельных негосударственных субъектов будут распространяться международно-правовые обязательства лишь по отношению к тем государствам и международным организациям, которые не опровергли презумпцию, такие, с точки зрения правовой определенности, нежелательные последствия довольно долго критически обсуждаются в зарубежной литературе, особенно в свете конститутивной теории признания государств. Правильнее, для опровержения этой презумпции продемонстрировать наличие соответствующего нормативного выражения всего международного сообщества в целом или, по крайней мере, достаточно единообразную практику государств и международных организаций. При этом такой подход также соответствует нормативной структуре современного международного права, адекватно учитывая вышеупомянутое представление, которое все чаще подчеркивается в юридической литературе, о том, что нормотворческие процессы в международной системе, сосредоточивая внимание на практике международного сообщества в целом, становятся все более независимыми от воли и интересов отдельных государств.
Список литературы Некоторые доводы в поддержку идеи о необходимости признания международной правосубъектности за транснациональными корпорациями
- Dupuy P. Proliferation of Actors // Developments of International Law in Treaty Making / eds. Wolfrum R., Röben V., 2005. P. 537.
- Shaffer G.C. Defending Interests: Public-Private Partnerships in WTO Litigation. 39 J. World Trade 387, 2005. P.227.
- Carver J. Remedies for Wrongful Acts of Transnational Corporations: Alien Torts, BITs or International Compensation // International Law Association. Report of the Seventy-First Session. 2004. P. 431.
- Malanczuk P. Akehurst's Modern Introduction to International Law. 7th ed. Routledge, 1997. P. 102.
- Dahm G., Delbrück J., Wolfrum R. Die Formen des völkerrechtlichen Handelns; Die inhaltliche Ordnung der internationalen Gemeinschaft. Bd I/3. Degruyter, 2013. 662 s.