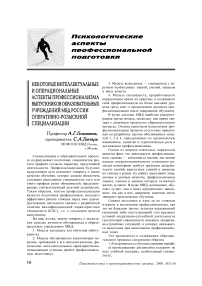Некоторые интеллектуальные и операциональные аспекты профессионализма выпускников образовательных учреждений МВД России оперативно-розыскной специализации
Автор: Гельманов А.Г., Гонтарь С.А.
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Психологические аспекты профессиональной подготовки
Статья в выпуске: 2 (14), 2000 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14988355
IDR: 14988355
Текст статьи Некоторые интеллектуальные и операциональные аспекты профессионализма выпускников образовательных учреждений МВД России оперативно-розыскной специализации
МОФ ЮИ МВД России, г.Москва
Специализация в образовательном процессе подразумевает подготовку специалистов разного профиля согласно характеру предстоящей деятельности. Профессионализация будущих выпускников вуза позволяет говорить о таком качестве обучения, которое должно обеспечить успешное выполнение специалистом того или иного профиля своих обязанностей, предусмотренных соответствующей штатной должностью. Таким образом, итогом профессионализации является подготовка профессионала, могущего эффективно решать стоящие перед ним задачи. Достижение последнего связано с разработкой понятия квалификационной характеристики специалиста (КХС), т.е. с созданием модели выпускника
На наш взгляд, можно говорить о нескольких моделях личности обучающихся в образовательных учреждениях МВД:
-
1. Модель кандидата для обучения (абитуриента).
-
2. Модель обучающегося (включающая перечень требований к его психологическим, физическим, интеллектуальным характеристикам, позволяющим успешно пройти профессиональную подготовку).
-
3. Модель выпускника — специалиста с перечнем необходимых знаний, умений, навыков и иных качеств.
-
4. Модель специалиста, проработавшего определенное время на практике и поднявшего свой профессионализм на более высокий уровень (речь идет о продолжении процесса профессионализации после завершения обучения).
В вузах системы МВД наиболее распространена третья модель, поскольку она прямо связана с конечным продуктом образовательного процесса. Отсюда серьезным недостатком профессионализации является отсутствие ориентации на разработку научно обоснованных моделей 1, 2 и 4, определяющих их органическую взаимосвязь, единство и стратегическую роль в достижении профессионализма.
Одним из широко известных парадоксов является факт, что деятельность профессионального сыщика — детектива (а именно так можно назвать оперуполномоченного уголовного розыска) неоспоримо требует эрудиции, академических знаний, виртуозных умений и навыков, но сплошь и рядом эту работу выполняют лица, личные и деловые качества, профессиональные знания, умения и навыки которых оставляют желать лучшего. В вузах МВД, несомненно, обучают лучше, чем в иных юридических заведениях, так как в них, например, заметное место занимает практическое обучение.
Однако исходным и едва ли не главным изъяном в воспитании профессионализма, как это ни банально звучит, остается неадекватный (неполный либо отсутствующий) учет реальных условий оперативно-служебной деятельности (достаточной совокупности основных оперативно-служебных ситуаций), в которых оказывается выпускник при выполнении профессиональных задач.
Это проявляется в содержании образовательного процесса следующим образом.
-
1. В теоретическом обучении (усвоении знаний):
-
а) преподаваемая дисциплина содержит не весь учебный материал, необходимый специалисту;
-
б) необходимая специалисту дисциплина вообще не преподается.
-
2. В практическом обучении (овладении умениями и навыками):
-
а) формируемые умения и навыки не обладают определенной степенью устойчивости, требуемой специалисту;
-
б) требуемые специалисту умения и навыки вообще не формируются.
В качестве примера обратимся к квалификационной характеристике выпускника Омской академии МВД России по специальности 021100 — Юриспруденция (специализация оперативнорозыскная, форма обучения очная, срок обучения 4 года).
Омская академия является одним из старейших образовательных учреждений страны. Она традиционно готовит кадры для оперативных аппаратов уголовного розыска, а в последние годы и следователей. Обучение проводится по типовым учебным программам, действующим и в иных образовательных учреждениях системы, поэтому основные положения модели специалиста-выпускника можно считать общими (сходными) и типичными для других вузов подобного профиля. Критика этих программ, а также учебных и тематических планов пока не является предметом нашего рассмотрения. Однако изложенные в указанной модели выпускника (КХС) положения со всей очевидностью свидетельствуют о параметрах профессионала высочайшего класса, которые невозможно ни оспорить, ни дополнить чем-либо существенным. Но главным парадоксом является то, что КХС, продолжая быть “красивым эталоном”, по-прежнему остается недосягаемой, не более чем декларацией, и не соответствует той мере реальной профессиональной подготовленности современного оперуполномоченного, которая наблюдается фактически.
На самом деле крайне узкий диапазон профессиональных возможностей выпускника — сыщика негативным образом может сказываться на эффективном решении практически любой, тем более комплексной профессиональной задачи, а иногда приводить к трагическим последствиям. Пожалеть будущего специалиста в условиях обучения, смягчить формы контроля — значит выставить его впоследствии под чужую пулю или нож. Такая “дидактическая жалость” “убыточна”, прежде всего, для обучаемого.
Речь идет о высоких технологиях обучения прочным знаниям, умениям и навыкам, формируемым на базе нового учебного материала, который еще не используется в образовательном процессе вузов МВД и вместе с тем целиком отвечает содержанию и смыслу КХС.
Между тем полное отсутствие подобного обучения вовсе не означает, что таких профес- сиональных знаний, умений, навыков не существует. Имеются некоторые виды и методики проведения практических занятий и форм текущего, промежуточного и итогового контроля, даже одним упоминаем которых мы рискуем, с непривычки, вызвать поток критики оппонентов в свой адрес.
Не характеризуя здесь дидактические средства достижения уровня знаний, умений и навыков, указанных в КХС, заметим, что затронутые нами некоторые интеллектуальные и операциональные аспекты профессионализма представляют собой ничтожную долю верхней части “айсберга” профессиональной выучки сыщиков. КХС включает требования “концентрировать внимание, волю, быть способным противостоять стрессовым факторам”, “обладать волевыми, эмоциональными и моральными профессионально значимыми качествами”, “владеть способами регуляции психического состояния”, “иметь высокий уровень физической подготовки и психической устойчивости”, “уметь отличать информацию от дезинформации”.
Как стать народным героем Штирлицем, решившим вздремнуть без будильника 30 минут на обочине по дороге в Берлин? По специальным методикам аутотренинга, саморегуляции надо учить быстро засыпать, спать урывками по 5-6 минут, не храпеть и не говорить во сне, вовремя просыпаться и отдыхать во время ходьбы. Надо научить способности быстро усваивать большое количество информации, скоростной памяти, скорочтению, сообразительности, специальным методам защиты от направленного физического и психического воздействия и контрприемам допроса. Надо раз и навсегда отучить даже добросовестного обучаемого от желания халтурить, проявлять эмоции и возмущаться, от брезгливости, боязни высоты, крови, страха перед неизбежностью смерти. Он должен перестать мыслить ограниченными милицейскими категориями и постоянно балансировать на грани профессиональной непригодности. Для всего этого имеются соответствующие знания, апробированные методики, эффективные средства и экономичные подходы, придающие обучению другой смысл и профессиональную значимость. Например, простая брезгливость ведет к гибели, и ее следует искоренять с посещений террариума со змеями и лягушками до выполнения особых заданий в морге анатомического театра, А это значит, что необходимо введение самостоятельного предмета — “Психологическая подготовка”.
Выпускника следует учить умению думать, специально формируя способность к профессиональному мышлению. Думать, не комплексуя, не боясь парадоксальных решений во всех, в том числе и экстремальных случаях, потому что в любых, даже крайне опасных ситуациях, следует принимать решение, а потом действовать. Чтобы выработать способность к анализу, требуется изучение новой учебной дисциплины — “Оперативный анализ”, структура которого используется в деятельности сотрудников спецслужб. Для развития криминального воображения и критического отношения к действиям других лиц выпускника надо заставлять читать детективы, изучать преступный подход в мышлении. Для этого есть специальный музей криминалистики и иные банки данных, где собраны сведения о продуктах преступного опыта.
Столь же необходимо выпускнику усвоить правила и нормы поведения в случае похищения, ограничения свободы движений и изоляции, в замкнутом пространстве, темноте и т.п. экстремальной обстановке.
Как правильно вести себя, оказавшись в темноте? Не прикуривать, глядя на пламя зажигалки? Или, как учит великий Фуше, нужно зажмуриться, досчитать до 30, чтобы сузились зрачки, и тогда зрение сможет различить самый незначительный источник света? А в абсолютной темноте?
Можно ли представить практическое занятие в форме индивидуального упражнения по формированию, казалось бы, элементарного умения “сидеть в засаде”? Вообразите темную, пустую комнату с телеэкранами слева, впереди, справа. Систематически на них вспыхивают геометрические фигуры; надо запоминать только треугольники, только боковым зрением, не двигая головой, зрачками. Противное бесполезно — пропустишь. По числу пропусков судят о степени внимания. Появляются и исчезают треугольники на экранах. Нет пищи, воды, часов, даже стула. Сидеть без движения час, сутки или двое. Экраны молчат. Этим провоцируют сон. Опять возникают треугольники на экранах. Использование способов сохранения внимания, приемов определения времени. Установка на ограничение пространства — каждой мышце комфортное положение, иначе — не выдержать. Замирание, как у насекомых, наблюдаемых помногу часов на предварительных занятиях. Упертый взгляд. Окаменевшие мышцы. Незаметное дыхание. Неподвижность. Приемы борьбы с усталостью, безразличием, сном. Инструкторский совет: оказавшись в изоляции, мозг должен безостановочно думать. Незаметное и бесшумное напряжение и расслабление различных групп мышц. В любой момент — готовность к действию. 21 час. Почти сутки. Команда. Приготовиться к спаррингу Удары. Проверка состояния мышц после “спячки”. Команда. Брэк. Перерыв.
Вот тезисное изложение еще одного “темного” аналогичного тренинга Темная комната. 2,
-
3, возможно больше условных противников. Задача — обнаружить, подсчитать, обезвредить. У всех — пистолет со световым импульсом и “последний патрон”.
Правило: выбор места, где сложнее определить присутствие. Правило: выбор специальной позы (только не лежа — без шума подняться невозможно). Правило: неподвижность равна отсутствию (как наблюдаемое на предварительных занятиях многочасовое замирание некоторых насекомых, поджидающих свою жертву перед внезапным нападением). Уползание куда-то в верх стены, разделяющей абсолютную темноту и тишину на две части. Бесшумное и недвижимое сидение, как у того насекомого. Бесшумное, медленное, плавное дыхание. Удержание кашля. Усмирение случайных “бульков” в кишках и бурчания в животе, слюноотделения. Все это выдает сразу. Нельзя глотать слюну, она выпускается тонкой струйкой на одежду. Для спеца сглатывание слюны в тиши — барабанная дробь и смерть. Со стороны недвижимость в темноте воспринимается наблюдателями через приборы ночного видения как пень на поляне, залитой солнцем. 2 часа, 6 часов. Противник не выдает себя. Правила перехода к активному поиску. Плавный поворот головы налево — направо и до конца. Плавное разгибание спины — позвоночник может хрустнуть. Приподнимание на коленях — и замирание более минуты. Опасны любые перегрузки, опасно даже незначительное усиление дыхания и пульса. Опора рукой на пол дает возможность поставить на пол правую ногу. Опять замирание. Медленное выпрямление. Возникновение преимущества — большего слухового обзора и большей свободы маневра. Пошли очки за активность. Дальше. Сначала стопы ползут над полом, затем большой палец касается его, потом подошва спускается на покрытие полигона. Окончательный перенос тела. Шаг — минута. Иначе — скрип сустава, шуршание спецодежды, сдвинутый воздух. Этого хватит, чтобы вычислить противника. Снова один шаг. Напряжение и усталость. Остановка. Тридцатиминутное прослушивание. Вслушивание до боли в ушах. Правильная слуховая пеленгация дает точность до градуса. Улавливание движения в стороне по непередаваемому напряжению пространства. Противник рядом — в 5-6 метрах и 150-120 градусах от дверей. “Тихоня”. Указание направленным пистолетом на обнаружение противника для наблюдателей. В метре — второй противник. Ощущение сквозняка выдыхаемого воздуха. “Вентилятор”. Указание наблюдателям на второго — двумя пальцами вверх. Замирание у одного из них за спиной — в 10 сантиметрах. Можно стрелять. Сразу в обоих....Бой закончен.
Книжно-киношные герои любят повторять, что мелочей в работе сыщика не бывает. Но учат ли его различать мелочи, незаметные для глаза простого человека, запоминать всю “картинку” любой обстановки в целом, синтетически? Заставляют ли его в процессе обучения писать ежедневные отчеты о “прожитом дне” с подробным описанием всего, вплоть до снов, случайных мыслей и оброненных слов (этот прием весьма эффективно и быстро тренирует память)? Тренируют ли внимательность и память бесконечное число раз, обязывая многократно перечислять вид и расположение предметов в комнате, в которую случайно заскочил неделю назад; предлагают ли запоминать расписание всех поездов, автобусов, самолетов со всех вокзалов города, ничего не записывая; обучают ли брать на учет (посадив у экранов мониторов и сутками тренируя зрительную память) автомобили и всех прохожих на улице?
Как проводятся занятия по теме “Словесный портрет” в вузах МВД? Два часа? Четыре? Слушателю или курсанту дают фотографию или предлагают описать соседа по парте с помощью раздаточного материала — готового набора терминов из учебника. Неполнота описания, неверное употребление термина (уши бывают большие, малые и средние) или искажение термина (“горбатый” нос) означают, что практическое задание не выполнено. А если выполнено, слушатель может считать, что получил по данной теме высшее образование, поскольку звонок прозвенел, и занятие по ней закончено. Так как систему терминов не заставляют заучивать для свободного оперирования, а соответствующих тренировочных упражнений не проводят, обучаемый не сумеет в дальнейшем ни самостоятельно описать человека, ни узнать его. А в итоге не происходит формирования ряда профессионально значимых умений, необходимых для составления ориентировок, узнавания разыскиваемых на улице, задержания подозреваемых, предотвращения преступления и т.д. Но хуже всего то, что обучаемый, добросовестно заблуждаясь порой на весь срок службы, искренне считает себя профессионалом.
В учебных целях необходимы многомесячные (в течении всего срока обучения) занятия по новому предмету “Опознание”, чтобы по словесному описанию либо кратко наблюдаемой фотографии, из сотен лиц, проецируемых на экране, можно было выловить единственно нужное, а затем описать его.
Нужно учиться быть внимательным к лицам людей и номерам автомобилей. Если одно лицо или один номер попался дважды — значит возможно наблюдение, и тогда на операцию или встречу идти нельзя.
Поэтому на экране мелькают тысячи несущихся лиц и их силуэтов, тысячи номерных знаков. Одних и тех же людей показывают в париках, гриме, в другой одежде и в разных позах. Номера машин могут быстро менять, и, значит, приходится узнавать их по внешнему виду.
Тренировки проводятся регулярно, скорость показа растет, каждый раз демонстрируется все больше изображений. Увидев одно и то же лицо, автомашину дважды на экране, следует мгновенно нажать кнопку. Нажал неправильно — легкий удар. Не нажал когда надо — опять удар. Ошибка и легкий неприятный удар током. Ошибка и — шок.
Даже в небольшом городе огромное количество людей и машин. Мозг не способен запомнить даже сотни лиц и автомобилей, тем более похожих; он может фиксировать миллионы деталей, но не позволяет нам пользоваться этой информацией. Поэтому изображения не нужно запоминать. Их учат узнавать. Аналитический ум здесь не поможет. Активность мозга должна быть не аналитической, а рефлекторной, как в специальных приемах применения оружия в экстремальных случаях. Требуется автоматический рефлекс, вырабатываемый методом профессора Павлова. Такие рефлексы будут приобретены за время обучения. А рефлексы, в отличие от представлений об умениях, полученных в школе скаутов, остаются на всю жизнь.
Не могут вызвать возражений и требования КХС о необходимости приобретения “умений в совершенстве владеть оружием” и “прочных навыков в двигательных действиях с использованием боевых приемов борьбы, специальных и подручных средств”. Это означает практическое обучение стрельбе из положения стоя, лежа, сидя, на бегу, из несущегося на полной скорости автомобиля, при падении на землю, днем, ночью, в дождь, туман, с левой руки, с правой руки, с обеих рук, на звук голоса и шагов. Держа рукоятку оружия по горизонтали; навскидку; “от пояса”. Помногу раз. С одновременным формированием особой психологии, соответствующих навыков и привычек к оружию. Со стрельбой из неудобных положений, в движении, при ограничении во времени, в жизненно важные органы. И есть множество малоизвестных деталей. Оказывается, если отжать крючок, оттянув курок, удерживая пистолет в обеих руках, попытка противника выбить оружие может оказаться для него смертельной. Пистолет номер два должен быть малым и помещаться в кармане. Стрелять следует всегда дважды: если промахнулся — уже все равно, если попал — наверняка; всегда — дважды, даже во сне подсознательно дважды и никогда — один раз. Есть конкретные правила, приемы, ситуации и цели применения отечественных, к слову, глушителей звука выстрела. И существует огромное количество незнакомых сотруднику единиц импортного оружия, незаконно ходящих по стране, и несовершенная инструкция по применению так называемого “табельного” оружия, из которого нередко первым стрелять нельзя, а вторым — уже поздно.
Как неизбежное следствие полного отсутствия соответствующего тренинга по рефлекторной дифференциации быстротечных ситуаций правомерности — неправомерности применения оружия в экстремальной обстановке — несоразмерная статистика погибших сотрудников.
Но это еще не все — КХС предполагает также боевые двигательные действия с подручными средствами. А это означает необходимость развивать профессиональную фантазию и навыки, позволяющие любой случайно завалявшийся в кармане или под ногами предмет превратить в оружие (дверные ключи, металлическая фурнитура одежды, зажигалки, авторучки, шнурки, денежная мелочь могут быть смертельно опасны). Профессионала обучают точно наносить удары пистолетом и наручниками, правильно держа их; защищаться палкой, ножом, гвоздем, торчащим из ботинка; метать ножи, гвозди, вилки, тарелки, бритвенные лезвия, ключи, сложенные в метательную звездочку под углом в 120 градусов, и предметы домашнего обихода. Он может грамотно использовать в качестве колюще-режущего оружия бутылки, жестяные консервные банки и крышки от них, стулья, карандаши, дамские шпильки и даже специфически сложенный картон.
Что представляют предусмотренные КХС “умения задерживать преступников в различных условиях обстановки”?
Профессионала долго и серьезно учат артистичности и виртуозному умению быстро расслабить противника (например, идя навстречу, с улыбкой, протягивая руку), убедить его в своей полнейшей “тюфячности”. На практических занятиях вырабатывают мгновенную реакцию и комплекс хорошо поставленных ударов (учебные бои длятся не более 3 секунд). В ограниченном пространстве вырабатывают реакцию на преступников с поднятым оружием, причем такие реакции больше основаны на психологии, а не на приемах самбо. Кроме того, требуется особая подготовка по специальному курсу “Тактика боя в закрытых помещениях”, знание правил подхода и входа в потенциально опасное помещение и многое другое. Обойдется ли выпускник-специалист без наручников или наденет их на задержанного по меньшей мере четырьмя способами, не лишая задержанного способности идти? Сумеет ли он перекатиться через капот машины, защитить от пуль ногу и колесо машины поворотом руля, располагаясь за ней как за укрытием? Сможет ли он, рассматривая каждое движение задерживаемого, сидящего за рулем, как враждебное, дать ему ряд строго определенных и последовательных команд, гарантирующих личную безопасность?
Вряд ли у кого из преподавателей-сыскарей, преподающих будущим оперуполномоченным УР, вызовет сомнение положение КХС о необходимости “владеть различными способами передвижения и преодоления препятствий”.
Но преподают ли завтрашним специалистам такой предмет, как “Бесшумное передвижение”? В городских условиях, в помещениях, по расшатанным деревянным лестницам. По лесной местности. Тренируют ли их неслышно ходить на рантах ботинок по специальной методике? Учат ли их не наступать на ветки, не задирая ноги вверх, протаскивать их над самой землей, чтобы отодвинуть и раздвинуть лесной мусор в стороны, находя опору на голой земле?
Другая “дисциплина” — “Взлом запорных устройств”. Современного сыщика учат описывать признаки повреждений замка на занятиях по криминалистической технике и тактике, профессионала — открывать его, изготавливать и применять отмычки, и значит, обучают знанию типов различных замков и способам их отпирания. Он может открыть наручники любой модификации и не одним приемом, потому что тщательно изучал чертеж изделия “БР” на учебном плакате или классной доске.
Практические занятия по “Затаиванию” включают, в частности, протискивание в такие щели и отверстия, которые не всякому ребенку под силу. Оказывается, имеется своя техника для этого. Предварительно наблюдая за кошками, заставляя их пролезать во все более узкие отверстия, можно заметить специфические движения, их последовательность и дыхание. Подбор “учебных отверстий” осуществляется настолько индивидуально, что после длительных тренировок обучаемому удается пройти через преграду, казавшуюся ранее непреодолимой.
Столь же необходим предмет “Прыжки” (из окон, подъездов, автомобилей) как способ преодоления препятствий. Он подразумевает, например, прыжки с машины на землю, с земли на грузовую машину, с поезда на насыпь, с насыпи в поезд, с прибрежного утеса в воду, из окон крыши трехэтажного дома вниз, с крыши того же здания в окно на свободно провисающей веревке так, чтобы ногами в раму с одновременной стрельбой из всех стволов. Наиболее оптимальная методика прыжков с несущегося поезда уже разработана физиками и математиками. Разумеется, обучаться таким прыжкам начинают с небольших скоростей — около 10 км в час.
Учат ли, согласно модели специалиста-выпускника, “приемам соблюдения конспирации в процессе оперативно-розыскных мероприятий”, “умению применять специальные методы решения оперативно-тактических задач” и “распознаванию контрмилицейской деятельности организованных преступных групп и адекватному реагированию на нее”?
Учебных дисциплин “Конспирация”, “Организация своей и обнаружение чужой слежки”, “Организация и использование тайников. Шифры. Коды. Пароли”, “Разработка легенд”, “Легализация и натурализация”, “Психология внедрения”, “Психология знакомства” в образовательном процессе не существует, и значит, не проводится практических занятий, экзаменов и зачетов.
Профессионалы говорят, что “по почерку” можно определить даже ведомственную принадлежность слежки. Должны ли оперативные работники усвоить правила и приемы слежки и контрслежки, “переключения”, “ухода”, “запрещенного отрыва”. Безусловно, обязаны, причем практически. Но учат ли этому и используемому для общения в визуальном наблюдении или скрытном захвате коду, выражаемому жестами, известными телезрителям по американским боевикам?
Для этого нужны практические занятия, выполнение заданий во внеаудиторное время. Нужно бегать по городу, в парках, на пустырях и стройках, отыскивая подходящие маршруты, удобные места для ухода от наблюдения, закладки и выемки тайников или негласных встреч. Надо научиться засекать человека в толпе, безошибочно выявлять слежку, много часов подряд меняя транспорт и петляя, выходить в безлюдные места и вновь бросаться в толпу. И все это — не из просмотра фильмов, чтения книг, а только практически. Лично. На занятиях. Вы знаете, почему студенты, идущие навстречу, не узнают своих преподавателей в выходные дни? Потому что привыкли смотреть не в основание носа, а в пряжку.
Требуется практика использования схоро-нов, тайников, шифров и каналов обезличенной связи, организации конспиративных встреч и способов проверки неприкосновенности жилища (используя при этом даже пыль и сквозняки). Нужны безошибочные, надежные технологии вербовки. Без “проколов”, основанные на малоизвестных психологических закономерностях, а не азбучные.
Один из важнейших законов теории конспирации — любое сомнение, подозрение, непредвиденная случайность истолковываются как провал и только в пользу срыва. Отсюда, если на встречу опаздывают хотя бы на 15 секунд, мероприятие отменяется. Это правило.
Передано: в 14.37.09, на проезжей части улицы с оживленным движением транспорта — и никак иначе. К этой не обыкновенной бытовой вежливости можно приучить лишь достаточно жесткими способами: если обед в 12.54 (± 2 сек), на 3-й секунде остается ждать ужина. Если следует зайти в аудиторию в определенное время — допустимое отклонение (±) 5 секунд, 6 секунд (±) — штрафные баллы, 10 секунд (±) — санкции, 1 минута — автоматические оргвыводы.
Современные требования, предъявляемые к будущему выпускнику — оперуполномоченному, содержащиеся в ведомственных нормативных актах, документации по организации учебного процесса и просто — поставленные жизнью сегодня, таковы, что сотрудник УР, уже работая по специальности, вынужден самостоятельно вникать и использовать в своей оперативной практике вопросы легендирования, легализации и натурализации, внедрения в преступные группы и т.п. Более того, все эти вопросы уже давно входят в содержание его деятельности и могли бы, как говорят, еще вчера занять в учебном процессе должное место. К сожалению, подобный учебный материал в образовательных учреждениях отсутствует, без всякого преувеличения, полностью.
При всем этом КХС , например, декларирует “обладание навыками профессионального общения (коллективного и индивидуального) с различными категориями граждан”, умения “входить в различные социальные роли и выполнять их” и “формировать доверие у людей и привлекать их на свою сторону”.
Оперативному работнику приходится нередко проникать за маскировку преступного поведения, а то и самому осуществлять те или иные легендированные контакты. Если начинающему нелегалу показывают учебный плакат с изображением “типичного” шпиона — человека с вороватым взглядом, оглядкой через плечо, неприятным выражением лица, с надвинутой на глаза шляпой, в черных очках, в плаще с поднятым воротником и руками в карманах, то выпускнику это делать не обязательно — он сам по себе являет достаточный образец соответствующей выправки — заправки, стрижки, строевого шага, манеры носить одежду и напряженного (либо развязного) сидения в кресле. Его походка, взгляд, дыхание не подвергаются долгим специальным тренировкам и не являются предметом и поводом для серьезного обсуждения и даже наказания. Его не учат не выделяться ни внешним видом, ни методами работы.
Поэтому сыщика необходимо научить сидеть за свежеоструганными деревенскими столами и изящными сервированными ресторанными столиками; есть тушенку, разогретую на трубе бульдозера, и живность, составляющую ава- рийный рацион; пользоваться ложками, палочками, руками, всей разновидностью ножей и вилок; правильно вытирать губы руками, бумажными салфетками и подолом ватника; курить изящный “Кент” и “козью ножку” из вчерашней газеты; пускать дым струями и кольцами; щелчками ногтя выбрасывать сигарету из пачки и закидывать ее в рот; играть на губной гармошке и гитаре. Ему следует впитывать признаки и навыки десятков профессий, требующихся для распознавания и легендирования, побывав стропальщиком, киномехаником, скотником, бухгалтером и геодезистом. Он должен управлять одной и той же лопатой и как корабельный кочегар, и как землекоп.
Сыщику следует втолковывать еще в стенах вуза, что он должен стать своим парнем в любой среде и безукоризненно держаться в кругу профессуры, мелких барыг, работяг и художественной элиты. А это значит — знать, какие болезни их одолевают, как они едят, пьют, думают и ходят.
Нужно серьезно (серьезней, чем в театральном вузе по системе Станиславского) преподавать “Актерское мастерство” с учетом того, что лишь в искусстве ошибка может быть простительна. Надо выставлять зачеты за симуляцию состояний обморока, потери сознания, эпилепсии, смерти, умение изображать крепко спящего или пьяного человека, профессиональное попрошайничество и обманутого мужа, ищущего жилье внаем. Требуется овладение предметом “Мимика, жестикуляция и походка”. Известно, что какая пленка “крутится” в голове, такой кадр проецируется на физиономии: нужно научиться менять выражение лица, особенно глаз и губ, изменяющих облик больше грима и париков. Важны жесты — манера держать рюмку или застегивать пиджак может выдать быстрее, чем язык; специфика походки — молотобойца, моряка и т.д. По тем же причинам следует изучать “Основы грима” — применение подручных средств из ближайшей аптеки и парфюмерного магазина; накладывание бороды, усов и парика, рисовка свежих шрамов, ссадин, татуировок; изменение щек и носа с помощью жеваной бумаги и обертывания фольгой передних зубов и пр. Полезно научиться экстренному перешиванию одежды и ношению любых предметов дамского платья. Из тех же соображений КХС надо включить в процесс обучения “Акценты”, “Молодежный сленг”, “Уголовный жаргон” (“блатную феню”, но не взятую в 2-3 словарях спец-библиотеки, а изучаемую в лингафонном кабинете), “Азбуку глухонемых”, “Ораторское мастерство” и “Чтение по губам”.
Необходимы теоретические и практические занятия по легализации самостоятельной разработке и реализации среди окружающих “скле- енной” биографии, подтверждаемой приобретенными знаниями, бытовыми умениями, навыками профессии и сотней иных деталей, а также по натурализации. Последнее означает, что сначала (с нуля) следует приобрести еду, дополнительную одежду, ключи, документы, мелочь, ручку, записную книжку, талоны на трамвай (потому что без этих предметов так же опасно, как и с пачками сотенных купюр), а затем работу — жилье — круг знакомых — любовную связь. Кстати, в учебных заведениях французской полиции выполняется более скромное задание — без оружия, документов и денег на любом транспорте пересечь территорию своей страны. Очевидно, подобные условия требуют значительной специальной подготовки, изучения неожиданных предметов — “Природное выживание”, “Подземные коммуникации города”, “Элементы зданий” и др.
Обучаемому надлежит усвоить “Психологию внедрения”, приобрести умения продумывать (разрабатывать) свою легенду, экипировку и особенности поведения. К ним относятся, например, умения рассортировать противников (при выполнении задания им потенциально является любой новый человек) по определенным признакам и кличкам (глядя на человека, следует сразу запоминать его имя); составить психологический экспресс-портрет по тому, кто первый откроет рот, с кем переглянется, за кем останется последнее слово; быстро управлять человеком, воздействуя на неконтролируемые им эмоции и используя его слабости и самолюбие; выделять приоритеты, направление угрозы и линию поведения. Поскольку успех внедрения решают первые мгновения общения, в случае, когда не ясно, за кем сила, кто “шестерка” — лучше молчать. Это может спасти жизнь, и если сразу не убили — не убьют, ты зачем-то нужен. Все это просчитывается за секунды при изображении растерянности и вроде бы не глядя ни на кого.
Совершенно необходимая дисциплина — предмет “Психология знакомства”. Это целая методика, предлагающая выбор приемов, предлогов, имиджа, обстановки, слов, жестов и пр. Она не похожа на попытку назначить незнакомой девушке свидание на вечер или советы из молодежных газет и журналов и применяется в профессиональных целях. Овладеть этими рекомендациями можно посредством ролевого тренинга и другими методами. Только так можно усвоить технику предварительной коммуникации, поддержания и выхода из психологического контакта. Закомплексованность снимается простейшим способом, рекомендуемым студентам японских университетов, — выйти на многолюдный перекресток улиц и громко кричать. Все это тем более важно, потому что КХС обя- зывает выпускника “выявлять психологические особенности людей с целью установления психологического контакта” и “составлять психологический портрет лица, представляющего оперативный интерес”.
Почему оперативному работнику важно научиться “смотреть в глаза”, “подавлять взглядом”? Да потому, что если не выдержишь первым тяжелый взгляд противника, дальше можно не пробовать получать от него признание или вербовать: он сильнее в психическом отношении. Можно тренироваться на собаках — так останавливают взглядом даже рассвирепевшего пса. Обычно тренируют (а тренировка должна быть серьезной и достаточно длительной — не моргать, не отводить взгляда) на зеркале, и есть рекомендации для этого. Рекомендуют в зоопарке смотреть животным в глаза, борясь с желанием моргнуть. Жизнь сама тренирует сыщика: со временем его можно распознать по более внимательному прямому взгляду.
Пожалуй, одними из самых декларативных являются положения КХС о том, что специалист-выпускник должен уметь “выявлять индивидуально-психологические особенности людей с целью установления психологического контакта, выбора метода психологического воздействия”, “применять методы психического воздействия на лиц, представляющих оперативный интерес”, “склонять лиц к отказу от противоправных намерений” и “применять физическую силу в предусмотренных законом случаях”. Причина — весьма позднее создание в вузах МВД кафедр психологии и полное отсутствие у них соответствующих психотехнологий и методик обучения, причем львиная доля обучения падает на вопросы общей психологии. Например, в рамках раздела криминалистической тактики и его темы “Тактики допроса” не преподаются ни эффективные программы-алгоритмы убеждения дать правдивые показания, ни психотехники преодоления противодействия субъекта и склонения его к признанию при отсутствии доказательств, ни иных спецкурсов.
Не существует предмета программы обучения для овладения навыками и методами вхождения в контакт, применением современных методик — “эриксонианской”, “нейролингвистического программирования”, рефлексивного управления, диагностики причастности к событию по речевому и внешнему поведению и др. Разумеется, методы воздействия на личность разработаны, и детально. В оперативной работе их можно разделить на две группы — методы обеспечения результативного общения (с учетом общих целей, условий, обстоятельств, фонового настроения и микроколебаний в поведении собеседника) и методы целенаправленного (форсированного), т.е. усиленного воздействия на человека в определенных целях.
Не обучают, однако, психологической структуре и механизму воздействия таких, например, методов (называем здесь лишь их часть), как внушение, секс-мероприятия, подкуп, шантаж, угрозы, запугивание, пытки, алгоритмизированная технология которых давно и подробно изложена в специальных источниках. А ведь сведения об этих методах необходимы оперативному работнику хотя бы для защиты от них. Из литературы, методически обеспечивающей преподавание учебной дисциплины “Спецмето-ды воздействия и защиты” (где речь идет, в частности, о физическом воздействии и пытках), можно сделать небезынтересные выводы: физическое воздействие на личность как форма насилия имеет ряд различных целей, приемы этого вида воздействия, восприятие, признаки и запоминание боли зависят от ряда факторов; физическое воздействие всегда должно быть дозированным и иметь определенный предел; способы “обратной связи” при физическом воздействии связаны с достижением цели этого воздействия; имеется, по крайней мере, шесть способов (и значительное количество рекомендаций психологического характера) для преодоления боли при физическом воздействии; механизм физического и психического воздействия достаточно похожи, поэтому чтобы противостоять обоим видам воздействия (т.е. использовать контрприемы), необходимо познать их лично. Знание контрприемов позволяет побеждать противника; существует множество положений, правил, рекомендаций в указанной области, знание которых необходимо оперативному работнику. Например, можно научиться управлять сознанием и болью.
Не преподается и такая дисциплина (или спецкурс), как “Использование слухов в оперативной работе”. Слухи есть официально неподтверждаемые сообщения, циркулирующие по межличностным горизонтальным каналам. В силу ряда известных свойств этого вида информации, ее источников и носителей слухи нередко используются при активной игре с противником в целях оптимального распространения правды, выяснения реакции, создания мнения, подготовки к событию и др. Обычный слух быстро “растворяется” даже в больших средах. Согласно исследованиям, проведенным КГБ еще в 70-е годы, скорость оборачиваемости слухов даже в таком крупном городе, как Москва, составляет всего от 6 до 8 часов. Поэтому слухи могут быть использованы и для забрасывания целевой дезинформации. Подчас это средство незаменимо для рефлексивного управления поведением еще неустановленного субъекта в неопределенном круге лиц, не говоря уже о фигуранте, находящемся под “колпаком”. Между тем существуют эффективные средства и методы подобной деятельности, позволяющие обна- руживать неизвестного преступника в условиях мегаполиса, и с ними должен быть знаком оперативный работник.
В заключение необходимо отметить следующее.
-
1. Мы не указывали и не рекомендовали виды, формы занятий, их методическое и материальное обеспечение, номенклатуру дисциплин и спецкурсов, а также распределение бюджета учебного времени. Не был рассмотрен и вопрос о структуре профессионализма и различиях в содержании специализации, осуществляемой при подготовке будущих сотрудников разных служб органов внутренних дел. Наша скромная задача состояла лишь в указании на некоторые знания, умения и навыки, важные для выпускников оперативно-розыскной специализации, формирование которых пока полностью отсутствует в учебном процессе. На вопрос о необходимости овладения указанным ответят профессионалы оперативных служб, учебных заведений и сами обучаемые.
-
2. Новая качественная подготовка профессионала (оперуполномоченного УР) потребует кардинальной ломки прежнего учебного процесса. В противном случае придется “опустить” планку требований КХС до уровня шкалы ремесленных училищ, признав заведомую недостижимость их выполнения.
-
3. Принципиальные подходы к профессионализации в процессе оперативно-розыскной специализации выпускников образовательных учреждений могут быть разработаны на уровне Центра обеспечения кадровой политики МВД России. С этой целью в рамках этой службы должно быть создано самостоятельное отделение, укомплектованное новыми сотрудниками из оперативных служб, психологами и учеными-преподавателями вузов основных специальностей (штат 7-8 человек). На сотрудников этого подразделения возлагается задача разработки и оптимизации соответствующих рабочих программ, темпланов, графиков учебного процесса и другой документации.
-
4. Созданные учебные программы подготовки специалистов для аппаратов УР предстоит реализовать в экспериментальном порядке на базе 1-2 вузов МВД России (Московского институт, Омской академии). Подходит для этих целей и Московский областной филиал ЮИ МВД России.
Высказанные соображения обусловлены не только катастрофическим отставанием учебного процесса от сегодняшнего дня, но и беспомощностью оперативных работников перед службами безопасности преступных группировок.
Список литературы Некоторые интеллектуальные и операциональные аспекты профессионализма выпускников образовательных учреждений МВД России оперативно-розыскной специализации
- Организация образовательного процесса в Омском юридическом институте МВД России. -Омск, 1998. -С. 16-26.