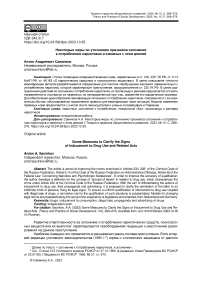Некоторые меры по уточнению признаков склонения к потреблению наркотиков и смежных с этим деяний
Автор: Савинков Антон Андреевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 10, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена совершенствованию норм, закрепленных в ст. 230, 2281 УК РФ, ст. 6.13 КоАП РФ, ст. 46 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». В целях повышения точности квалификации автором разрабатывается определение для понятия «возбуждение желания» применительно к употреблению наркотика, которое характеризует преступление, предусмотренное ст. 230 УК РФ. В целях разграничения действий по склонению к потреблению наркотиков, их пропаганде и рекламе предлагается уточнить направленность последних из названных на неопределенный круг лиц, закрепляя его юридические признаки. Для обеспечения единообразной квалификации склонения к потреблению наркотиков, сопряженного с их незаконным сбытом, обосновывается нормативное правило для квалификации таких ситуаций. Модели изменения правовых норм предлагаются с учетом опыта законодателей и ученых из Швейцарии и Германии.
Наркотики, склонение к потреблению, незаконный сбыт, пропаганда и реклама наркотиков
Короткий адрес: https://sciup.org/149143278
IDR: 149143278 | УДК: 343.3/.7 | DOI: 10.24158/tipor.2023.10.35
Текст научной статьи Некоторые меры по уточнению признаков склонения к потреблению наркотиков и смежных с этим деяний
Развитие ответственности за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов1 характеризуется преобладанием тенденции к ужесточению реагирования на данное преступление.
Наиболее очевидно это проявляется в расширении границ состава преступления. Если в первой редакции уголовного законодательства (1965 г.2) норма о «склонении» защищала от данного деянии только несовершеннолетних, то последующие редакции (с 1974 г.1) предполагали охват всех возрастных групп населения в этом отношении. Границы запрета передвигались за счет криминализации «склонения» к потреблению психотропных веществ (1996 г.2), их аналогов (2012 г.3).
Особенностью этого процесса является то, что расширение границ уголовно-наказуемого поведения сопровождается недостаточностью нормативно-правовой проработки некоторых признаков преступления: в ст. 230 УК РФ4 не уточняется дефиниция преступного деяния, момент его окончания, направленность – эта информация переносится в область судебной интерпретации, статус которой в качестве источника современного уголовного права неоднозначен. Вне поля регламентации и судебной трактовки остались некоторые признаки потерпевшего.
Эта особенность, на наш взгляд, связана с непреодоленностью противоречий в оценках необходимой степени дискреционности правовой нормы о «склонении»: так, одни эксперты ратуют за более подробную регламентацию признаков этого деяния в норме закона5, другие – уточняют некоторые параметры, но сохраняют «простую» диспозицию нормы6.
Конечно же, предусмотреть все возможные особенности преступления в меняющихся условиях сложно, но основные (релевантные для квалификации) параметры, по нашему мнению, должны быть отражены в тексте закона. Это касается и смежных со «склонением» деяний, поскольку правовое разграничение правонарушений требует системного подхода.
Рассмотрим некоторые меры.
-
I. С точки зрения Пленума ВС РФ для склонения к потреблению наркотиков характерны следующие действия: предложение, совет и иные, направленные на «возбуждение желания» потребить наркотик7. Также и мы, развивая данный подход, выступаем за закрепление в диспозиции ст. 230 УК8 РФ указанных способов и направленности преступления9.
Чем же характеризуется «возбуждение желания» в данном деянии?
С лексической стороны слово «желание» толкуется как «влечение, стремление к осуществлению чего-нибудь»10. Думается, что эти понятия весьма обширны и вряд ли в полной мере тождественны друг другу.
С.Л. Рубинштейн характеризует желание осознанностью и предметностью: человек знает, что он хочет, и может на осознанной основе организовать свое действие (Рубинштейн, 2002: 563). Ученые из Российской академии наук определяют желание как «мотивационный импульс, направленный, как правило, на определенный объект и побуждающий к действию для достижения желаемой цели или предотвращения нежелательного результата»11.
Р.С. Немов и Н.П. Ансимова отмечают, что характерной особенностью желания является ясное определенное представление о цели, к которой человек стремится. Желание отнесено к будущему, к тому, что мы хотели бы сделать. При этом могут быть слабо осознаваемы средства, с помощью которых данную цель возможно достигнуть1.
Е.Е. Рогова подчеркивает, что для желания характерно осознание объектов и возможных путей удовлетворения потребности2. Другие ученые трактуют анализируемый термин (желание) как осознанную потребность, которую человек может сформулировать и наметить план ее реализации3.
Итак, «желанию» присуще признание наличия потребности (основа мотивации), определение цели, планирование поведения (возможно – установление средств). Такое толкование не противоречит уголовно-правовой трактовке «желания» (как элемента вины), поскольку юристы связывают его с мотивацией и целенаправленностью поведения4.
Упомянутые признаки «желания» необходимо адаптировать к особенностям исследуемого нами преступления и юридической техники.
Если в психологическом понимании осознание потребности, определение цели и планирование деятельности воспринимаются как элементы единого психического явления (желания), то в технико-юридическом отражении (в правовой дефиниции) логично было бы указать эти элементы «желания» как альтернативные. Это облегчило бы доказывание, когда «склонитель», воздействуя на жертву, делает акцент или на осознании ею потребности в наркотиках, или на акте потребления их как цели поведения жертвы.
Если в психологических определениях не фигурируют особенности воздействия, следствием которых становится возникновение «желания», то в правовом определении (для ст. 230 УК РФ)5 следует отразить, что осознание потребности, принятие цели и планирование осуществляются добровольно. Это необходимо, чтобы подчеркнуть ненасильственный характер воздействия, возбуждающего желание (отделить его от иных форм преступления), а также сознательно-волевой характер этого решения, принимаемого жертвой по своей неограниченной воле (при этом отметим, чем сложнее жертве принять решение, тем очевиднее проявляется волевая составляющая).
Обобщая изложенное, отметим, что для ст. 230 УК РФ6 «желание» – это психическое явление (процесс), протекающее у склоняемого лица, заключающееся в добровольном осознании потребности в приеме (потреблении) наркотического средства, психотропного вещества или их аналога и (или) избрании их потребления в качестве цели своего поведения либо планировании ее достижения.
Уточнение признаков этого явления коррелирует с зарубежным опытом. Так, в статье 19с швейцарского федерального закона от 03.10.1951 г.7 криминализировано «умышленное подстрекательство или покушение на подстрекательство какого-либо лица к незаконному потреблению наркотических средств». Толкование разъясняет, что преступление направлено только на конкретное физическое лицо, при этом учитывается его психическое отношение к наркотикам (потерпевшим не может быть лицо, которое окончательно решило употребить наркотик8). Это характерно и для общего понимания подстрекательства в швейцарском праве (оно возможно в отношении лиц, которые еще не сформировали умысел на совершение конкретного преступления)9.
В швейцарском праве подстрекательство подразумевает психическое воздействие на подстрекаемое лицо, в результате которого у последнего формируется воля совершить конкретное преступление. Подстрекательство может выражаться в просьбах, вопросах, иных мотивирующих действиях10. При этом для данного деяния не характерно сообщение нейтральной информации о наркотиках1. Создание жизненной ситуации, при которой возможно формирование умысла, не является подстрекательством2. Не могут быть подстрекательством и неопределенные призывы к совершению преступлений, если из обстановки не следует их однозначного толкования3.
Из изложенного следует, что швейцарские юристы определяют психические процессы жертвы через их прямое описание или указание деяний, исключающих случайное формирование «желания».
Учитывая это и ориентируясь на нормативно-правовой подход к совершенствованию ст. 230 УК РФ4, полагаем логичным отразить направленность «склонения» на «возбуждение желания» в дефиниции преступления (в ч. 1 ст. 230 УК РФ5), а признаки «желания» – в примечании к ст. 230 УК РФ6.
-
II. Ни законодатель, ни Пленум ВС РФ не детализировали степень персонифицированно-сти жертвы «склонения». Основываясь на судебной практике и результатах экспертных опросов, мы отмечали, что для данного деяния характерно персонифицированное воздействие на «склоняемое лицо», предлагали включить этот термин в дефиницию «склонения» (Савинков, 2021).
Для дополнительного отграничения рассматриваемого деяния от пропаганды наркотиков (ст. 6.13 КоАП РФ7) необходимо уточнить признаки адресата последней.
Ни в ст. 1 (термины), ни в ч. 1 ст. 46 (запрет пропаганды) Федерального закона от 08.01.1998 № 3–ФЗ «О наркотических средствах…»8 не указано, к кому обращена «пропаганда». Подзаконным актом9 определены критерии наркопропаганды в сети Интернет: все критерии, кроме одного, не затрагивают признаки адресата информации; только последний из них (формирование положительного образа участника незаконного оборота наркотиков – п. 2.1.6) указывает, что информация направлена на «целевую аудиторию». Под такой аудиторией принято понимать некую часть общества, на особенности которой ориентировано воздействие, однако точнее определить адресата не удается.
В литературе «пропаганда» означает распространение в массах и разъяснение воззрений, идей, учений и знаний для восприятия максимально широким (неопределенным) кругом лиц и формирования общественного мнения (Барабаш и др., 2015: 9; Слесарев, 2018). Однако в разработанных экспертами дефинициях пропаганды (рекламы) наркотиков10 характер адресатов не получил достаточной разработки.
В некоторой мере этот вопрос представлен в зарубежном праве. Так, согласно п. «f» абз. 1 ст. 19 Федерального закона Швейцарии «О наркотических средствах…» 1951 г.1 наказуемы «публичные призывы к потреблению наркотических средств, публичное сообщение о возможности их приобретения или потребления». Публичность означает воздействие на широкий круг лиц, с которыми субъект преступления не состоит в межличностных отношениях2. Отметим, что для швейцарского права в целом характерно такое понимание «публичности» совершаемых преступлений. Судебное толкование разъясняет, что под таковыми понимаются деяния, которые совершены не в семейном или дружеском круге лиц, а также не в круге лиц, с которыми субъекта правонарушения объединяют личные отношения3.
Германскому праву известно такое деяние, как «…совершенные в собрании (при скоплении людей) … призывы к потреблению наркотика без медицинского назначения» (§ 29 Закона ФРГ «Об обороте наркотиков» 1981 г.4). Под ними следует понимать призывы, высказанные в присутствии значительного числа лиц (от трех человек), при этом цель собрания должна носить публичный характер (Kotz, Rahlf, 2012: 85).
Подобные признаки проявляются и в иных нормах такого рода. Согласно § 29 Закона ФРГ «Об обороте наркотиков…» 1981 г.5 установлена ответственность за «публичное … сообщение о возможности несанкционированно получить или приобрести наркотик», «публичное… заявление о возможности незаконного потребления наркотика вне специально отведенного помещения». Таковым считается способ, при котором сообщение адресуется значительному числу лиц и может быть ими воспринято. При этом они не должны состоять между собой в межличностных отношениях (Apfel, Strittmatter, 2015: 335).
Незаконная реклама, запрещенная § 29 Закона ФРГ «Об обороте наркотиков…» 1981 г.6, согласно толкованию К. Малека, также характеризуется публичным воздействием ранее охарактеризованного типа (Malek, 2015: 120).
Германский опыт (толкование § 111 УК ФРГ «Публичные призывы к совершению преступлений», § 86а УК ФРГ «Распространение или публичное, совершенное в собрании использование знаков запрещенных партий или объединений»)7 показал, что неопределенный круг адресатов характеризуется также неизвестностью их множества (числа) для правонарушителя; его неспособностью контролировать количество потенциальных воздействий8.
Таким образом, у швейцарских и германских юристов сложились различные подходы к признакам адресатов массового распространения информации.
Первый подход характеризует аудиторию такого воздействия отсутствием личностных взаимоотношений между правонарушителем и его адресатами. Несомненно, данный подход заслуживает внимания, однако перенесение этой модели в отечественное право могло бы создать сложности при квалификации по признаку «личностных взаимоотношений» ввиду многообразия возможных связей правонарушителя и адресатов его воздействия. Так, не совсем ясно, как интерпретировать отношения, когда люди лишь знают о существовании друг друга, но не общаются. Непонятно, существуют ли основания усмотреть «личные взаимоотношения» между лицами, которые вынуждены эпизодически контактировать друг с другом в связи с проживанием в одном районе, совместной трудовой или учебной деятельностью, но не общаются вне вынужденных жизненных, производственных, учебных ситуаций.
Второй подход характеризует число лиц, образующих аудиторию (более трех). Он также примечателен, но не лишен спорных аспектов, главным из которых является условность численного критерия и возможность применения его только к деяниям, в условиях публичного выступления, что не охватывает всех вариантов пропагандистского и рекламного воздействия.
Третий подход связывает понятие неопределенных адресатов с неспособностью субъекта правонарушения контролировать число и персональный состав лиц, становящихся «целями» воздействия, с его незнанием о точных границах круга лиц, которые могут воспринять информацию. Этот подход независим от оценки характера личностных связей и минимальных численных границ аудитории, что упрощает квалификацию.
В российском праве сложились представления о толковании «неопределенного круга лиц» (применительно к ст. 3 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38–ФЗ1), подобные рассмотренному нами «третьему подходу»2. Так, достаточно подробно (для обеспечения наиболее точной квалификации) признаки «неопределенного круга лиц» раскрыты Н.Н. Карташовым. К ним он относит: а) отсутствие объектов, для которых информация создается и к восприятию которых направлена; б) невозможность заранее определить всех лиц, которым информация будет доведена3.
Учитывая зарубежный опыт, логично дополнить признаки, указанные Н.Н. Карташовым, пунктом «в»: «неспособность в процессе правонарушения контролировать круг лиц, воспринимающих информацию».
Нам кажется логичным уточнить эти признаки «неопределенного круга лиц» в нормативном определении пропаганды и незаконной рекламы:
– ст. 46 Федерального закона от 08.01.1998 № 3–ФЗ4 логично было бы дополнить п. 3.1 следующего содержания: «Пропаганда характеризуется распространением информации, указанной в настоящей статье, в отношении неопределенного круга лиц»;
– ст. 6.13 КоАП РФ5 логично было бы дополнить примечанием: «Пропаганда и незаконная реклама осуществляются в отношении неопределенного круга лиц. Распространение информации в отношении неопределенного круга лиц характеризуется отсутствием лица, для которого информация создается, и к восприятию которого она направлена; невозможностью заранее определить всех лиц, которые будут воспринимать информацию; неспособностью в процессе правонарушения контролировать круг лиц, воспринимающих информацию».
-
III. Изучение судебной практики показало, что по некоторым делам при квалификации склонения к потреблению наркотиков (ст. 230 УК РФ6), сопряженного с незаконным сбытом наркотиков (ст. 2281 УК РФ7), принимались спорные решения (не вменялась совокупность преступлений).
Одной из причин этого является конкуренция подходов к квалификации ситуаций такого рода. Так, согласно п. 27 постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2006 № 148 «склонение» определено как деяние, требующее «при наличии к тому оснований» дополнительного вменения ст. 2281 УК РФ9. Такой подход представлен и в доктринальном толковании (Бочарникова, 2015: 11). В то же время п. 13 указанного выше постановления10 определяет незаконный сбыт наркотиков как «деятельность…, направленную на … реализацию» наркотика. Понятие «деятельность» при этом подразумевает совокупность действий; понятие «реализация»11 в широком смысле – какое-либо использование. Это создает предпосылки для понимания «склонения» как элемента деятельности по реализации наркотика. В связи с доктринальными подходами, развивающими идею «поглощения» менее тяжких составов (служащих «способом», «формой проявления содержания преступного поведения», «средством достижения преступной цели»1) более тяжкими составами преступлений, это терминологическое сочетание может создавать предпосылки для неединообразной квалификации по ст. 2281, 230 УК РФ2. Этот риск усиливается тем, что некоторые формы «склонения» и сбыта наркотиков взаимосвязаны (например, инъекция запрещенного вещества человеку подразумевает одновременное воздействие на наркотик и потерпевшего).
Идея «поглощения» ст. 230 УК РФ3, на наш взгляд, может иметь негативные последствия. Так, если по конкретному делу доказано, что «склонение» есть способ или средство незаконного сбыта и «поглощено» им, то такое деяние влечет санкцию до 8 лет лишения свободы. Если же этой цели доказано не будет, то совокупность деяний может наказываться заключением на срок до 12 лет. Без однозначности и единообразия толкования эта ситуация создает предпосылки для несистемного применения уголовного закона.
В зарубежном праве есть примеры определения признаков преступлений данных видов, подчеркивающих их разграничение. Так, в ст. 19 упомянутого ранее закона Швейцарии4, действия, схожие со сбытом наркотика, определены как «отчуждение», «предоставление» другому лицу наркотика, что отличает их от «подстрекательства к его потреблению». Наблюдаются и специальные деяния, подразумевающие «элементы» незаконного сбыта наркотиков. Так, ст. 19бис Федерального закона от 03.10.19515 содержит норму, запрещающую предложение наркотического средства без медицинских показаний, передачу или создание иным образом доступности наркотического средства для лица, не достигшего 18-летнего возраста. Согласно юристу М. Бернеру, под «предложением» здесь следует понимать предложение другому лицу передать в его распоряжение наркотическое средство6. Таким образом, деяния, связанные с незаконным распоряжением наркотиком, законодательно дифференцированы и отделены от подстрекательства к его потреблению. Заметно стремление законодателя к дифференциации деяний как основе их последовательной квалификации.
Учитывая изложенное, полагаем, что логично предусмотреть в примечании к ст. 2281 УК РФ7 правило квалификации ситуаций сбыта, сопряженного со «склонением», отражающее функциональные особенности этих преступлений и исключающее конкуренцию между судебно-практическим разъяснением (предписывающим вменение совокупности преступлений) и доктринальными подходами (подразумевающими возможность «поглощения» ст. 230 УК РФ8):
Передача наркотического средства, психотропного вещества или их аналога другому человеку, введение их в организм другого человека или иное создание условий для потребления наркотического средства, психотропного вещества или их аналога охватывается признаками незаконного сбыта (ст. 2281 УК РФ9) только в части незаконного распоряжения наркотическим средством, психотропным веществом или их аналогом; воздействие на человека, обеспечивающее потребление наркотического средства, психотропного вещества или их аналога – возбуждение желания, убеждение, обман или принуждение (в том числе нарушение телесной неприкосновенности для введения наркотического средства, психотропного вещества или их аналога в организм), – подлежит квалификации по ст. 230 УК РФ10.
Подводя итог, отметим, что для уточнения квалификации «склонения» информативен следующий зарубежный опыт:
-
1. Закрепление в нормах о склонении (подстрекательстве) к потреблению наркотиков признаков потерпевшего, на которое направлено деяние, с разъяснением этого признака, определяющим отношение жертвы к потреблению наркотика (Швейцария). Это указывает на возможность нормативного отражения признака потерпевшего в ст. 230 УК11 РФ и разработки правил, уточняющих его психическое отношение к ситуации преступления.
-
2. Разъяснение спорных форм склонения (подстрекательства): возможность его совершения путем «мотивирующих» действий, вопросов; недопустимость квалификации в качестве склонения сообщения нейтральной информации о наркотиках, не формирующей у адресата решимости их употребить (Швейцария). Этот опыт указывает на спектр деяний, способных влиять на психику жертвы преступления, а также на возможность уточнения понятия «склонение» в ст. 230 УК РФ1.
-
3. Закрепление в правовых нормах отличительных особенностей преступных деяний, схожих со склонением к потреблению наркотиков: а) незаконности потребления наркотиков; б) момента окончания (на этапе покушения) (Швейцария). Данный опыт указывает на перспективность нормативно-правого определения преступного деяния в ст. 230 УК РФ2 и наиболее востребованных правил квалификации.
-
4. Признаки правонарушений, способствующие отграничению «склонения» от передачи наркотиков и их пропаганды (Швейцария, Германия). Данный опыт указывает на возможность уточнения признаков незаконного сбыта наркотиков, их незаконной рекламы и пропаганды.
Список литературы Некоторые меры по уточнению признаков склонения к потреблению наркотиков и смежных с этим деяний
- Барабаш В.В., Бордюгов Г.А., Котеленец Е.А. Государственная пропаганда и информационные войны. М., 2015. 400 с.
- Бочарникова Л.Н. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: проблемы квалификации // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2015. № 2. С. 10-13.
- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 2002. 720 с.
- Савинков А.А. Научные подходы к разработке новой редакции статьи 230 УК РФ и ее судебно-практического толкования // Общество: политика, экономика, право. 2021. № 8 (97). С. 83-94. https://doi.org/10.24158/pep.2021.8.14/.
- Слесарев М.В. Ответственность за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков // Молодой ученый. 2018. № 52. С. 208-210.
- Apfel H., Strittmatter G. Strafverteidigung im Betäubungsmittelrecht. Hamburg, 2014. 668 S. (на нем. яз.).
- Kotz P., Rahlf J. Praxis des Betäubungsmittelstrafrechts. Koln, 2012. 1676 S. (на нем. яз.).
- Malek K. Betäubungsmittelstrafrecht. München, 2015. 450 S. (на нем. яз.).