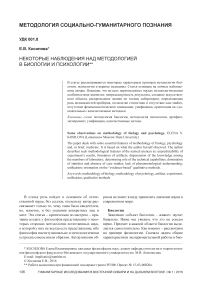Некоторые наблюдения над методологией в биологии и психологии
Автор: Косилова Елена Владимировна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Методология социально-гуманитарного познания
Статья в выпуске: 1 (35), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые характерные признаки методологии биологии, психологии и вкратце медицины. Статья основана на личных наблюдениях автора. Показано, что во всех перечисленных науках методологическими особенностями являются: непредсказуемость результата, создание искусственного объекта, распределение знания по членам лаборатории, определяющая роль возможностей приборов, господство статистики и отсутствие case studies, отсутствие феноменологического понимания, унификация, ориентация на «доказательные» количественные методики
Методология биологии, методология психологии, артефакт, эксперимент, унификация, количественные методы
Короткий адрес: https://sciup.org/170175627
IDR: 170175627 | УДК: 001.8
Текст научной статьи Некоторые наблюдения над методологией в биологии и психологии
В статье речь пойдет в основном об отечественной науке, без ссылок, поскольку автор рассказывает только то, чему сама была свидетелем, но, конечно, и без указания конкретных лиц и мест. Эта статья – критическая по настрою – призвана создать у философов представление о некоторых сторонах методологии естественных наук, о которой у них не всегда есть представление, ибо философия институционально и методологически устроена совсем иным образом. Автор никоим об- разом не имеет в виду принизить значение науки в современном мире.
Биология
Заявление «объект биологии – живое» звучит банально. Ниже мы увидим, что это не совсем верно. Предмет в каждой области биологии выделяется самостоятельно. Как именно – рассмотрим на примере физиологии. Сначала дадим общие характеристики экспериментальной работы в био- логии. Эксперименту зачастую не предшествует никакая разработанная гипотеза. Конечно, уж о математизированной гипотезе нет и речи. Даже качественный результат иногда предвидим, но чаще нет. Специфика биологического объекта (в нашем случае – организм или мозг): ВСЕ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕ. Исключительная сложность устройства организма приводит к тому, что воздействовать на него – примерно то же, что экспериментировать с платой компьютера, не зная, как она устроена. Естественный выход: эксперимент проводится методом тыка. Его общая формула: сделаем что-нибудь и посмотрим, что получится. Это, конечно, гротеск. Кое-что известно заранее, но в основном откуда? – из предшествующих экспериментов, проведенных методом тыка. Специально надо отметить, что «сделаем что-нибудь» означает отрезать, уничтожить, разрушить какую-нибудь часть организма. Не будет большим преувеличением сказать, что «биология – наука о смерти», по крайней мере в областях, подобных физиологии. Поскольку все воздействует на все, куда бы экспериментатор ни ткнул, какой-нибудь результат он получит.
Определяющая роль метода . Под методом понимается очень простая вещь: какая установка стоит на столе в данной лаборатории. Установка может измерять потенциалы клеток, вязкость жидкости, скорость протекания жидкости по сосудам, газовый состав выдыхаемого воздуха и т.п. Может быть, это лабиринт для крыс. Установки стоят очень дорого, и редкая лаборатория, по крайней мере в нашей стране, может позволить больше одной-двух установок. Строение установки можно до некоторой степени менять, но в ограниченных пределах. Следовательно, лаборатория ставит те эксперименты, которые позволяет делать установка (так выбирается предмет исследования).
На примере установки для измерения работы сердца (она снимает показания кровяного выброса, частоты сокращений, возможно – регистрирует сокращение участков сердечной мышцы) рассмотрим, какие эксперименты тут можно поставить.
-
а) Протестировать влияние на сердце некоторого вещества. Обычно этим и занимаются в силу наличия большого количества заказов от фармакологических компаний. Можно сделать предварительно операцию на сердце (искусственный инфаркт и т.п.) или операцию на любом другом органе и посмотреть, как влияет данное вещество в разных условиях. При мне была модной тема «стресс». Исследовалась она так: крыс загоняли до полусмерти, давая им разряды тока (вариант:
-
б) Можно поменять животное. Установка обычно приспособлена к животным определенного размера, от крыс до кошек, как ее менять – об этом дальше. Но даже если получатся разные результаты для крыс и кошек – это уже открывает поле для десятков дальнейших экспериментов (попробовать вырезать печень у кошки, попробовать перерезать спинномозговые нервы у крысы и т.п.). Если вещество действует на всех протестированных животных одинаково, это тоже отличный результат – далее можно искать рецепторы к этому веществу, прикидывать, как его можно использовать для медицины и многое другое.
-
в) С этим же веществом протестировать модель заболевания, допустим перикардита или хронической сердечной недостаточности, или ишемии, или ограничения питания, или… вариантов столько, на сколько хватает фантазии у сотрудников. Варианты зависят не только от заказов фирм, иногда даже входят с ними в конфликт, но прежде – от перспектив публикации и от авторитета данной лаборатории у коллег.
-
г) Поменять вещество и снова проделать весь вышеописанный цикл. Здесь есть небольшое место гипотезе и предвидению, но в основном все равно основной метод – метод тыка.
-
д) На одном и том же эксперименте можно сделать (в части статьи discussion) самые смелые предположения.
Этот список далеко не полный. Можно одновременно измерять несколько показателей, можно предварительно делать очень хитрые операции. Например, может оказаться, что какой-нибудь анастомоз (искусственное закорачивание артерии на вену) полностью переворачивает действие вещества). И так далее.
-
е) Математизация результатов – примитивная статистика (критерий Стьюдента). Если кто-нибудь может получить более достоверный результат другим способом, ему карты в руки, но никто обычно других способов не знает. Журналы, разумеется, не принимают статьи, в которых результаты не достоверны. Один из верных способов повысить достоверность результата – увеличить количество экспериментов, то есть количество животных (одно экспериментальное животное не используется в других экспериментах и после эксперимента забивается). Обычно считается, что средняя норма – от 10 до 20 животных. Однако многим не хочется так много работать, тем более если операция сложная. Это ведет к большому количеству приписок, которые очень сложно проверить.
ё) Case study, то есть интересный эксперимент на одном животном, в современных журналах не котируется. Такая статья, если только не исходит от академика, будет отвергнута. Вся биология насквозь пронизана статистикой. Только статистически подкрепленный эксперимент будет принят. Само по себе это не страшно, но очень плохо, что данная парадигма проникает в медицину. В медицине, к сожалению, приживаются биологические методы, связанные с выгодой для фармакологических фирм. Ниже я расскажу, как это делается при помощи элементарной статистики.
Чтобы понимать специфику научной деятельности в биологии, надо представлять себе структуру лаборатории и того, кто в ней, собственно, является познающим субъектом.
Средняя лаборатория состоит из пяти-десяти человек.
|
КТО |
ЧТО ЗНАЕТ И ДЕЛАЕТ |
ЧЕГО НЕ ЗНАЕТ |
|
Шеф |
Задает общую проблематику. Договаривается с фармакологическими фирмами. Ведет аспирантов. Пишет ведение и заключение. |
Как устроена установка (см. ниже). Давно забыл, как делать анастомоз. Может не знать, как взять в руки агрессивную крысу. Может не знать всех сотрудников (аспирантов). |
|
Доктор наук и кандидат наук |
В рамках общей проблематики разрабатывают эксперимент. Пишут Discussion. Знают в лицо всех сотрудников и осуществляют координацию. |
Как и шеф, разучились делать экспериментальную работу. |
|
Младший научный сотрудник (мнс) и 1-2 аспиранта |
Проводят собственно эксперимент. Умеют взять в руки любую самую агрессивную крысу и безболезненно сделать наркоз. Знают все условия и выводы, в том числе те, которые кажутся побочными. Пишут Results и, если нужно, Methods*. |
Аспиранты могут не знать, с каким веществом работают, т.к. много работ с допингами и по заказам обороны. Они не вникают в тонкости работы установки (но мнс обычно установку знает досконально, это его дело). Они слабо представляют контекст исследования и какие результаты были ранее. |
|
Особая личность: человек, который умеет читать |
Чаще это женщина. Идеально, если она умеет читать по-английски, но и по-русски читает литературу почти только она: биологи не любят библиотек. Почти никто из биологов не знает иностранных языков. Она пишет обзор литературы. Если она умеет еще и писать по-английски, ей нет цены. |
Не знает вообще, что происходит в лаборатории, за исключением самых общих вещей; ее дело – что происходит в мировой науке. |
|
Очень важная личность: мастер – золотые руки |
Обычно это сотрудник не одной лаборатории, а института. У него может не быть высшего образования. Но он может как угодно перестроить установку: с крыс на собак, с сердца на кишки, с регистрации потенциала на регистрацию частоты импульсов. Установку он видит специфическим зрением техника, и ему достаточно двух слов и одного взгляда, чтобы понять, что от него хотят и что для этого надо сделать. |
Про эту конкретную лабораторию он не знает ничего, кроме имени шефа и мнс. |
Это типовой состав лаборатории, он может меняться. Маленькие лаборатории состоят из шефа, мнс и аспиранта. Тогда функции распределяются по-другому. Но очень редко бывает, чтобы в лаборатории существовал хотя бы один человек, который знает все о том, что происходит.
Как я уже писала выше, все воздействует на все, поэтому каждый эксперимент, как бы нелепо он ни был поставлен, непременно дает «новое знание». Поэтому лаборатория обычно выпускает за год очень много статей. Двенадцать, т.е. по одной в месяц, – это, я думаю, не самое большое. Все статьи, разумеется, подписаны всеми соавторами, в том числе аспирантами. Проводить статьи в журналы – дело шефа, у которого там много связей, если нужны рекомендации, то всегда действует взаимообмен. Конечно, его же дело подбирать оппонентов аспирантам, и тоже в порядке взаимообмена.
Типичные примеры
Эксперимент с подобием гипотезы. Тестировали крыс на решение задачи в лабиринте; лабиринт сложный, задача сложная. Выделились три группы крыс: первая решала задачу одним способом, вторая другим, третья вообще не решала. Тут было широчайшее поле для гипотез, в том числе с применением компьютерной метафоры и учения позднего Павлова. Главенствовала гипотеза о том, что разные группы крыс по-разному используют память. А потом получили грант и стали проверять на крысах вещество. Гипотеза звучала так: три группы крыс на вещество будут реагировать по-разному, но как – неизвестно, надо посмотреть. Возможно, будут по-другому решать задачу. Оказалось, нет, решают так же, но разница действительно была. Вещество было в свободном доступе, и после решения задачи третья группа не пила его совсем, вторая группа пила значимо больше, первая – значимо меньше. А вот если крыс надолго оставляли без задач, то есть в покое, вторая группа не пила, а первая начинала пить. Вещество в данном случае не секретное: подслащенный 5% С2Н5ОН. Это был интереснейший результат, потому что из этого были сделаны выводы о том, кто и почему пьет: некоторые от стресса, а другие – наоборот, от скуки. И это связано с тем, как они решают задачи, с устройством их памяти и стратегий обращения к ней (это входит в состав гипотезы, разумеется, т.е. не доказано, что речь действительно о памяти).
Пример эксперимента без гипотезы. Те же условия. У крыс разрушали различные зоны мозга и смотрели, как изменяются их способы решения задачи. Пришли к выводам об этих зонах мозга. Некоторые выводы были интересны, но даже совокупным мозговым штурмом не удалось придумать, как их можно подтвердить (возможно, дело в том, что лаборатория была маленькая).
Самый вымученный пример эксперимента. Аспирант изучал вопрос, едят ли землеройки т.н. сеголеток, то есть лягушат, только что прошедших метаморфоз из головастиков и разбредающихся из родного водоема. По мысли аспиранта, в голодные годы землеройки выживают, поедая сеголеток.
Землеройки сеголеток не едят. Они ведут совсем другой образ жизни, их пища – земляные черви, жуки и т.п. У него в эксперименте землеройки тоже отказывались есть сеголеток, если была хоть какая-то альтернатива. Но он ставил и ставил эксперименты, перестраивал установку, наконец дошел до того, что морил землероек голодом, который они не переносят. И он добился, что пара-тройка землероек съела по паре-тройке сеголеток. Остальные землеройки предпочли умереть от голода.
Дальше – дело техники, зарисовок и фотографий, подходящих статистических критериев и всего остального. Вряд ли, конечно, его научный руководитель (а это была известная ученая) разрешила ему выпускать диссертацию с результатом «землеройки питаются сеголетками». Но, разумеется, какая-то глава, посвященная или выживанию землероек, или опасностям для сеголеток, в этой диссертации была.
Что хорошо видно на этих примерах – это то, что лаборатория сама создает себе из так называемого «живого» так называемый «предмет исследования». Исследования, которые проводятся в некоторых лабораториях, не имеют никакого отношения к жизни животных в их естественных условиях. Морить животное голодом, чтобы заставить его есть то, что оно никогда не ест в природе, – пример такого фантазийного «предмета исследования». Да и крысы в своей жизни не бегают по лабиринтам и не пьют пива.
Несколько слов о медицине
В целом медицина следует за биологией в основных трендах.
Один из трендов в медицине – практическое исчезновение в ней case studies. Медицинские журналы все менее охотно публикуют отдельные случаи, им нужны те же группы 5-10 человек – экспериментальная и столько же контрольная, – тот же слепой метод. Более того, такой подход проникает в психологию и психиатрию! Там вытесняются методы понимания (в психологии они называются качественными) в пользу методов статистических, даже зачастую без объяснения (в психологии: количественные методы).
На этом построена доказательная медицина. Грубо говоря, она состоит в том, что лекарство, прежде чем выпущено, проходит статистическую проверку. Существует огромное количество лекарств. Проверка любого вещества (на приблизительно 30 платных добровольцах каждое!) занимает много времени и денег. В «доказательную» лабораторию берут не все лекарства. Какие? Вот здесь возникают злоупотребления.
-
а) Фармакологические компании: проплатить исследования тех веществ, которые им выгодно продавать – новые и дорогие. Я не говорю про коррупцию на уровне ложных результатов – против этого все же принимаются достаточно жесткие меры. Однако всем известно, что статистика часто позволяет получить нужный результат без всяких подлогов и коррупций. Лекарства чаще всего действительно эффективны, но деятельность фармакологических компаний приводит к вытеснению с рынка дешевых лекарств и замене их на дорогие, которые зачастую ничуть не лучше.
-
б) Страховые компании: выплачивают страховку только на те лекарства, которые прошли процедуру «доказательства». Если вещество, которое помогает, не прошло проверку, больной платит из своего кармана. Более того, если не ошибаюсь, врача даже могут наказать за использование «недоказанных» средств. Понятно, что у страховой компании и сами по себе выплаты уменьшаются, и возникает соблазн коррупции в виде проплаты «доказательным» лабораториям дешевых лекарств, чтобы платить по страховке меньше. Это тренд обратный, и он удешевляет рынок, но зачастую не пропускает на него эффективные, хотя и дорогие, лекарства.
Исчезновение case studies и торжество статистических методов приводят к катастрофической унификации диагностики и лечения. Очень двусмысленным детищем ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в этом плане является так называемый МКБ – международный классификатор болезней. Задуман он был из насущных практических нужд (скажем, в разных странах действуют разные стандарты диагностики, и человек, считающийся здоровым в одной стране, пересекая границу, неожиданно для себя оказывается больным. На этой почве могут возникнуть даже криминальные конфликты). МКБ периодически пересматривается, раньше пересмотры касались в основном нозологии, теперь в корне пересматривается сам подход к болезням с заменой их на син- дромы, по возможности однозначно диагностируемые. Сейчас действует МКБ 10-го пересмотра, но уже на подходе 11-й пересмотр, в котором, как говорят, будут резко преобладать синдромальные классификации над классификациями болезней.
Повторюсь, что дело это, в общем, полезное, и делают его люди компетентные и понимающие, какие задачи являются насущными. Поначалу не видно беды в том, что диагностика унифицируется. Однако затем на основе рекомендаций той же ВОЗ к каждому синдрому (читай: каждому пункту МКБ) разрабатываются стандарты лечения. Обычно это происходит на уровне министерств отдельных стран. Опять же в этом не видно беды, пока речь идет, условно говоря, о вывихе голеностопного сустава.
Беды еще не видно, но она уже есть. Рекомендации помогают сориентироваться неопытным врачам, но опытный доктор, видевший в жизни множество переломов, ставит диагноз на глаз, а не по критериям МКБ. И он может увидеть то, что не ухватывается унифицированным критерием, – например, что перед ним не вывих, а опухоль. Он видит это по множеству мелких признаков, что и говорит о его опытности.
Сомнения посещают уже в таких чисто соматических случаях, как панкреатит. Имеются две школы, одна настаивает на лечении по формуле «холод, голод и покой», вторая – на активном операционном вмешательстве. На настоящий момент, насколько мне известно, договориться им не удалось. Следует ли принять решение голосованием компетентных представителей всех стран в ВОЗ или в рамках некоего конгресса? Очень возможно, что результат будет во всех случаях около 50:50, и смысла давать однозначные рекомендации по лечению в этом случае нет, каждая школа будет лечить своих больных так, как свойственно ей.
Что же касается психиатрии, то тренд унификации и господства статистики в этом случае действует однозначно во вред. Психиатрию следует рассмотреть как особый случай.
Поскольку мозг и душа – неизмеримо более сложные системы, чем весь остальной организм, возможность болезней и нарушений их так же неизмеримо больше. Это банальность. Психически больные субъекты гораздо более разнообразны и уникальны, нежели больные панкреатитом (между прочим, удивительно, что они куда менее разнообразны, чем можно было бы ожидать). Строго говоря, для диагностики психических болезней МКБ вообще не применим, а при отсутствии унифицированной диагностики терапевтические рекомендации по определению невозможны.
Прибавим к характерной для психиатрии гипердиагностике еще и тупо, механически поставленный по МКБ диагноз и, по рекомендациям, лекарство, прошедшее доказательные процедуры, и мы получим медицину, которая мало чем отличается от лоботомии 1950-х гг.
Психически больного надо стараться видеть во всей его уникальности, что возможно только при использовании метода, который научно именуется феноменологическим, а на простом языке называется пониманием. Непреодолимым препятствием к этому является то, что как раз на простом языке этого больного часто понять невозможно; например, невозможно понять бред и то, почему больной не реагирует на рациональные доводы. Признаки бреда регистрируются визуально, для чего подходит и МКБ, и лечатся тем лекарством, которое рекомендовано – или комиссией министерства, или в рамках данной школы (сводящейся часто к одному-двум отделениям). Я не проводила соответствующих исследований, но думается, большинство психиатров подтвердит, что в одном отделении диапазон используемых средств – около десятка (а я думаю, ближе к пяти-шести) – и это при огромном разнообразии их в психиатрической фармакологии. Психиатров в этом обвинить трудно: при ограниченном времени пребывания больного в стационаре хаотическое перепробова-ние десятков средств – еще хуже.
Господство унификационных тенденций привело к тому, что психиатры перестают пытаться понять данного конкретного больного, описать его в его уникальности – даже тогда, когда понимание возможно (например, в случае реактивной депрессии). Зачем пытаться вникать в его переживания, если диагноз ставится в этом случае достаточно просто по МКБ, а стандарты лечения, как уже было сказано, традиционны на уровне отделения в рамках министерских рекомендаций?
На этом фоне не может не радовать, что возрождается традиция т.н. клинических разборов, т.е. пристального расспроса больного группой докторов под руководством профессора [2]. После внимательного опроса доктора совещаются между собой и соборным разумом выносят решение о диагнозе и лечении. Интересно, что иногда такой консилиум искажает диагноз еще больше, чем механическая МКБ-диагностика (см.: [3]) – за счет авторитета председательствующего или еще по каким-то причинам. Но, конечно, здесь мы видим настоящую вдумчивую работу, не допускающую унификации. Это и называется феноменологическим методом. К сожалению, такие клинические разборы редко идут под запись и где-либо публи- куются. Из известных журналов, регулярно публикующих клинические разборы, можно назвать только «Независимый психиатрический журнал».
Психология
Рассмотрим ее на примере когнитивной психологии. Но сначала скажем несколько слов о специфике методологии психологии в общем и целом. Психология – раздвоенная наука. Кто-нибудь может подумать, что, судя по названию, это наука о душе. Понятно, что слово «душа» нужно заменить современным – психика, внутренний мир человека, область его мышления и чувств. В принципе, этим самым психология и занимается, но – очень своеобразно. Первая часть этой раздвоенной науки обеими ногами стоит на биологии, или, конкретнее, физиологии нервной системы. Впрочем, сюда же относится и генетика (скажем, передача по наследству склонности к темпераменту), и этология (по определению: наука о поведении животных) – всем им находится место в методах психологии. Если кому-нибудь трудно понять, как наука о поведении животных может изучать психику человека, то кратко сошлюсь на так называемую социобиологию. Это идущая от К. Лоренца разработка способов объективной регистрации поведения. Сейчас она разрабатывается преимущественно психиатрами [1], но в перспективе применение ее и к вполне здоровым людям. Проблема тут только в сложности регистрации множества признаков одновременно, но эта проблема решаема по мере увеличение мощности компьютеров и сложности регистрирующих установок.
Ближе всех к биологии стоит, разумеется, нейропсихология и психофизиология. Об их методах можно сказать все то же, что выше было сказано о методах биологии. Это методы тыка, построения широких гипотез задним числом без возможности проверки, господствующая роль приборов, искусственное создание объекта исследования, так сказать, негативность. Проявляется это в том, что в большинстве случаев материалом является мозг, некоторым образом нарушенный, по крайней мере, подвергшийся какому-то воздействию. Мы помним, что свои первые знаменитые опыты по локализации психических функций А.Р. Лурия ставил на больных, перенесших ранение головы. С тех пор мало что изменилось.
Но вторая ветвь психологии, так сказать, гуманитарная психология, не опирается на биологию. Теперь вспомним, что существует противопоставление методов объяснения и понимания, которое в психологии можно свести к противопоставлению качественных и количественных методов. Количе- ственные методы – это, иначе говоря, статистика. Понятно, что эти методы господствуют в биологической ветви психологии. Что непонятно, так это то, что они проникли в ее «гуманитарную» часть, вытесняя феноменологические методы понимания. У всех людей психика разная. Выше было сказано, что унификация не применима в психиатрии, но в психологии она неприменима на порядок больше.
Пример. Некий ученый изучает «жизнестойкость» – нам сейчас неважно, что это такое, но ясно, что это личное достояние субъекта, и можно только пытаться понять, как некоторые достигают жизнестойкости и почему другие не достигают ее. Для этого нужны беседы, исследовательские интервью, феноменологическое описание, герменевтическая интерпретация – словом, это нужно изучать методом case studies, качественным методом.
Однако данный ученый вынужден, скрепя сердце, произвести на свет некий опросник. Далее он вооружается базовым для всех психологов тестом MMPI и идет собирать статистику. Жизнестойкость измеряется в баллах, шкалы MMPI служат для «познания» подопытных личностей, а результат представляется в виде корреляции шкалы жизнестойкости со шкалами MMPI. Правило количества подопытных – примерно такое же, как в биологии, от 10 до 20 (чем больше, тем лучше), и корреляции, разумеется, должны быть достоверны. Возможно, окажется, что жизнестойкость коррелирует, например, со шкалой «паранойи» MMPI. Что дает этот результат уму или сердцу?
Рассмотрим теперь когнитивную психологию. Отнести ее к биологической ветви однозначно нельзя, но это и не гуманитарная психология. Ранее она занимала как бы промежуточное положение. В настоящее время, с появлением методик томографии, которые были подхвачены когнитивной психологией, она приблизилась к биологии, однако интеграция ее с культурной антропологией, наоборот, отдаляет ее от биологии – словом, это область широкая и неоднородная. Тем не менее я рискую утверждать, что ей свойственны все особенности методологи вышеописанных наук. Не будем брать спарку «когнитивная психология-психофизиология», так как тут и так все ясно, эту интердисциплинарную область просто можно считать подвидом биологии. Возьмем противоположную область, вроде бы далекую от биологии.
Рассмотрим т.н. нейроэстетику. Вообще говоря, она считает себя отдельной наукой, но не будет большой натяжкой отнести ее к когнитивной области.
Пример постановки эксперимента в области нейроэстетики: с использованием некоей установки (фМРТ, регистрация ЭЭГ или кожных потенциалов – не имеет значения) исследовали различные группы испытуемых на восприятие музыки. Среди групп были: а. европейцы, профессиональные музыканты; б. европейцы, не имеющие музыкального образования; в. неевропейцы, имеющие и не имеющие образования, соответственно. Мелодический материал также включал некое разнообразие – от примитивных мелодий до признанных шедевров. Реакцию измеряли при помощи имеющейся установки и затем кратким интервью, включавшим два три вопроса: какое произведение понравилось больше, какое место в каком произведении понравилось больше и т.п. Результат обсчитывали, разумеется, статистически. Между большинством групп, сопоставленных попарно, различий не было. Также не было разницы между самоотчетом и данными с установки. Этот результат радует сердце – какова межчеловеческая сила искусства! – но характерная примитивность постановки опыта, огромное разнообразие возможностей варьировать опыт, изменяя группы испытуемых и мелодии, тестируя вещества или влияние предыдущих мелодий на восприятие следующих, с подобием гипотезы, но без понимания происходящего, – все это напоминает биологию с ее методом тыка.
Мы выяснили выше, что в биологии познающим субъектом в большинстве случаев можно назвать только всю лабораторию вместе взятую. Отсюда, собственно, и господство унификацион-ных количественных методов. Для феноменологического понимания нужен один экспериментатор (знающий все о том, что происходит во время опыта, знающий устройство установки и т.п.) и один испытуемый, которого экспериментатор внимательно расспрашивает. Тогда появляется шанс понимания: например, почему при прослушивании одних мелодий образование влияет на восприятие, а при прослушивании других – нет? Это заявление вовсе не означает: «уберите из лаборатории все установки и только разговаривайте». Это было бы глупо, ибо почему бы не исследовать мозговые процессы? Однако феноменологическая внимательность привнесла бы понимание. А практика «двойных слепых методов» катастрофически препятствует пониманию. Из результатов вышеописанного опыта – скорее всего, заказанного каким-то рекламным агентством – даже непонятно, какую музыку ставить во время рекламы.
Результат опытов отрицательный, но его можно попытаться спасти, имитируя внимательность к испытуемым. Их можно разделить не только на европейцев и неевропейцев и образованных/не-образованных, но еще и, например, по возрасту, полу, темпераментам (естественно, с применением MMPI), да хотя бы по шкале жизнестойкости. Где-нибудь непременно найдется положительная корреляция, и результат, соответственно, будет получен. Поскольку все это не под силу одному человеку, группа разрастется, будет создана лаборатория, распределены роли, и мы придем к результатам, мало чем отличающимся от биологических.
В рассмотренных науках, а именно биологии и психологии, методологическими особенностями являются: непредсказуемость результата, распределение знания по членам лаборатории, определяющая роль возможностей установки, искусственное создание предмета исследования («под возможности установки»), господство статистики и отсутствие case studies, отсутствие феноменологического понимания, унификация, ориентация на «доказательные» количественные методики.
Я, конечно, несколько утрировала ситуацию. Во всех науках не все так плохо. И спасает эти науки наличие эрудированных и, главное, мудрых ученых. К сожалению, таких ученых мало. Трудно быть мудрым и эрудированным в век лавинообразного потока бессмысленного «нового знания», полученного случайным образом в огромном числе ветвей и областей современной науки. Ситуацию мог бы спасти мозговой штурм или по крайней мере постоянно действующий семинар, но опыт показывает, что на таких семинарах мало-помалу складывается постоянное общество, в котором говорят между собой два-три человека, и трудно сказать, что выносят оттуда остальные. Многочисленные конференции мало способствуют обмену научной информацией, их цель – неформальное общение ученых между собой. И уж точно они не являются подобием того мозгового штурма, который мог бы спасти лабораторную разобщенность и создать практически настоящее понимание. Роль научных журналов не слишком велика, по крайней мере, создается впечатление, что она в нашей стране много меньше, чем за рубежом.
Список литературы Некоторые наблюдения над методологией в биологии и психологии
- Гильбурд О.А. Шизофрения: семиотика, герменевтика, социобиология, антропология. М.: Видар, 2007.
- Клинические разборы в психиатрической практике/Под ред. А.Г. Гофмана. М.: МЕДпресс-информ, 2009.
- Косилова Е.В. Психиатрия: опыт философского анализа. М: Проспект, 2014.