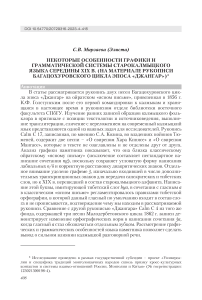Некоторые особенности графики и грамматической системы старокалмыцкого языка середины XIX в. (на материале рукописи багацохуровского цикла эпоса «Джангар»)
Автор: Мирзаева С.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается рукопись двух песен Багацохуровского цикла эпоса «Джангар» на ойратском «ясном письме», привезенная в 1856 г. К.Ф. Голстунским после его первой командировки к калмыкам и хранящаяся в настоящее время в рукописном отделе библиотеки восточного факультета СПбГУ. Изучение ранних записей образцов калмыцкого фольклора в оригинале с позиции текстологии и источниковедения, выполнение транслитерации, сличение с переложением на современный калмыцкий язык представляются одной из важных задач для исследователей. Рукопись Calm C 17, записанная, по мнению С.А. Козина, во владениях нойонов Тюменей, содержит две песни - «О свирепом Хара Кинясе» и «О свирепом Мангасе», которые в тексте не озаглавлены и не отделены друг от друга. Анализ графики памятника показывает, что она близка классическому ойратскому «ясному письму» (исключение составляет нестандартное написание сочетания ng), поскольку сохраняет угловатую форму написания лабиальных o/o и корректную расстановку диакритических знаков. Отдельное внимание уделено графеме j, изначально входившей в число дополнительных транскрипционных знаков для передачи санскритских и тибетских слов, но к XIX в. перешедшей в состав старокалмыцкого алфавита. Написание этой буквы, имитирующей тибетский слог bya, в сочетании с гласным a в классическом «ясном письме» регламентировалось правилами тибетской орфографии, в которой данный гласный по умолчанию входит в состав слога и не прописывается, подтверждение чему мы находим в рассматриваемой рукописи. Сравнение с другой рукописью «Джангара» Calm C 4 из того же фонда, содержащей три песни Малодербетовского цикла 1862 г. записи демонстрирует изменение орфографических норм в написании сочетания ja, когда гласный a стал обозначаться отдельным зубцом. Рассмотрение графических и грамматических особенностей языка памятника позволяет сделать вывод о сильном влиянии калмыцкой разговорной речи.
Эпос «джангар», багацохуровский цикл, к.ф. голстунский, ойратское «ясное письмо», старокалмыцкий язык, влияние разговорного языка
Короткий адрес: https://sciup.org/149144367
IDR: 149144367 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-415
Текст научной статьи Некоторые особенности графики и грамматической системы старокалмыцкого языка середины XIX в. (на материале рукописи багацохуровского цикла эпоса «Джангар»)
Исследование национального эпоса калмыков «Джангар» берет свое начало у истоков российского академического монголоведения, одна из основных школ которого находилась в Казани, а затем в Петербурге. С именем яркого представителя этой школы К.Ф. Голстунского (1831– 1899) связаны одни из первых записей песен эпоса «Джангар» на старокалмыцком «ясном письме», рукописные оригиналы которых в настоящее время хранятся в рукописном отделе библиотеки Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета (далее – РО БВФ СПбГУ).
Профессор Императорского Петербургского университета Константин Федорович Голстунский, автор трехтомного «Монгольско-русского словаря», изданного в 1893–1896 гг., с самого начала своей исследовательской и преподавательской деятельности из всех монгольских народов был тесно связан именно с калмыками. Уже на следующий год после создания в 1855 г. кафедры монгольского и калмыцкого языков как одного из подразделения факультета восточных языков Императорского Санкт-Петербургского университета состоялась первая поездка К.Ф. Голстунского «в калмыцкие улусы Саратовской, Астраханской и Ставропольской губерний на 5 месяцев с целью практического усовершенствования в калмыцком языке и изучения жителей тамошнего края...» [Решетов 2001, 7], в том числе в Багацохуровский улус. В результате этой командировки библиотека Санкт-Петербургского университета пополнилась, согласно «Списку калмыцким книгам и рукописям, привезенным г. Голстунским из калмыцких степей. 1857 год» [Успенский 2001, 18–19], 33 рукописями, в число которых входит и рассматриваемая в данной статье рукопись с двумя записанными К.Ф. Голстунским песнями Багацохуровского цикла эпоса «Джангар» (шифр Calm C 17) [РО БВФ СПбГУ. Calm C 17].
Целью статьи является археографическое описание этой рукописи, а также анализ почерка и особенностей орфографии, в том числе в сравнении с другой рукописью эпоса «Джангар» Calm C 4 из того же фонда [РО БВФ СПбГУ. Calm C 4], которая содержит три песни другого, Мало-дербетовского цикла и была привезена в Петербург К.Ф. Голстунским спустя 6 лет, после второй его поездки к калмыкам в 1862 г. [Успенский 2001, 19]. Подобные исследования оригинальных записей эпоса «Джангар» второй половины XIX в. на старокалмыцком «ясном письме» (см. также предыдущую публикацию: [Мирзаева 2021]) в первую очередь направлены на то, чтобы обозначить необходимость их изучения не только в рамках фольклористики, но и с точки зрения текстологии, что позволит осветить некоторые вопросы, касающиеся истории их письменной фиксации, взаимовлияния устного и письменного текста и пр., а также других дисциплин. В современном монголоведении уже осознается необходимость работы с данного вида источниками в междисциплинарном русле, о чем также пишет Б.А. Бичеев: «…работа с текстами песен “Джангара” требует определенного внимания со стороны монголоведов. Необходимо активизировать работу по выявлению в отечественных и зарубежных архивах оригиналов песен “Джангара” для их текстологического анализа» [Бичеев 2018, 12].
Актуальным представляется изучение данных рукописей и с точки зрения лингвистики, поскольку нам известно время их фиксации, и, соответственно, изучение их графических и грамматических особенностей позволит дать более точную датировку тех или иных процессов в развитии старокалмыцкого языка и письма. Так, например, Н.С. Яхонтова в одной из публикаций, исходя из датировки рассматриваемой ею рукописи, отмечает, что к концу XIX в. знак долготы удан , вероятно, утратил свою функцию и стал декоративным элементом почерка [Яхонтова 2020, 1078]. Аналогичные случаи использования в рукописи Calm C 17 удана после согласного d как показателя долготы предшествующего гласного звука позволяют уточнить, что данное явление характерно и для более ранних текстов рубежа 50–60-х гг. XIX в.
Согласно каталогу В.Л. Успенского, рукопись Calm C 17 не имеет названия, первые строки «Olon ′bum burxan üde dumduni üdeleqsen», шифр Calm C 17 (старый шифр Xyl. F 63), инв. № 1770, коллекция Голстун-ского (1857), № 2; в европейском переплете, лл. 1–28а, 35*21,6 см, 30– 31 строка [Catalogue… 1999, № 908]. Полистная пагинация не авторская (исключение составляет первый лист, на котором текст заключен в двойную рамку и слева обозначен номер страницы nigen ‘один’), проставлена позже, арабскими цифрами в верхней левой части листа: слева от начала текста ручкой проставлен номер листа (К.Ф. Голстунским?), выше, ближе к корешку, также слева карандашом указан номер страницы (сотрудниками библиотеки?), на обороте листа пагинация отсутствует. В тексте имеются вставки как отдельных букв, так и слов (слева от основного текста), исправления (вычеркивания, на обороте 4-го листа (12–13-я строки) видны следы затирания неправильно записанного слова), различные дополнительные пометы (горизонтальная черта, вероятно, отмечающая конец строки, короткая горизонтальная черта с двумя пересекающими ее вертикальными черточками, крестик, назначение последних двух знаков неясно).
Рукопись содержит две песни, которые внутри текста не озаглавлены и отделены друг от друга четырьмя точками (знак окончания текста), повторяемыми два раза: начало второй песни находим на обороте 19-го листа (9-я строка), о чем свидетельствует бирга, знак начала текста, который в данной рукописи встречается в начале каждого листа. Названия эпических песен были даны исследователями уже впоследствии, согласно их содержанию, – песнь «О свирепом Хара Кинясе» (в переводе К.Ф. Голстун-ского) и песнь «О свирепом Мангасе» (в переводе А.Ш. Кичикова). Джан-гароведы определяют эти две песни как относящиеся к Багацохуровскому циклу эпоса, бытовавшему у «приволжских торгутов “Бага-Цоохур” и хошутов, живших выше Астрахани» [Җаңһр 1978, 40] (А.А. Бобровников упоминает об отдельном хошутовском списке «Джангара», записанном О.М. Ковалевским, отличая его от переведенного им Багацохуровского списка [Бобровников 1854, 100–101]). Одной из отличительных его особенностей исследователи называют объемный пролог, в частности в переводе А.А. Бобровникова, который свидетельствует об обширности самого цикла [Кичиков 1992, 181].
Рукопись Calm C 17, по предположению С.А. Козина, была записана «в имении Тюменей, хошутовских нойонов» (цит. по: [Кичиков 1992, 167]). О том, что приобретение К.Ф. Голстунским рукописей осуществлялось при покровительстве вышестоящих лиц, может косвенно свидетельствовать цитата из его донесения в факультет восточных языков от 4 августа 1856 г.: «В этом улусе я обращал особенное внимание на приобретение сочинений, но при всем моем старании, при всех средствах, которые были употребляемы для этого, – и всегда встречал скрытность калмыков, которые утаивают свои умственные сокровища, считая великим грехом передавать их в руки иноверца. Ни деньги, ни ласки, ни усиленные просьбы не помогут приобрести что-нибудь порядочное, а только содействие лица, имеющего на них влияние, может послужить в пользу искателя (выделено мной. – С.М. )» (цит. по: [Решетов 2001, 8]). С записью К.Ф. Голстунским Багацо-хуровского и Малодербетовского эпических циклов А.Ш. Кичиков связывает также личность зайсанга Нойанакинского (Абганеровского) аймака Дорджи-Джаба Кутузова, с которым исследователь, вероятнее всего, познакомился в первую свою поездку в 1856 г. и который впоследствии был приглашен преподавать калмыцкий язык студентам монголо-китайского разряда [Кичиков 1976, 36].
Принадлежность рукописи фольклорному жанру обусловила отсутствие в ней колофона, в котором могли бы содержаться данные о переписчиках или инициаторах перевода. Тем не менее ее анализ показывает в ней наличие двух видов почерка – аккуратного, убористого, с корректным использованием диакритики, что встречается относительно нечасто в памятниках старокалмыцкого письма XIX в. (о различных аспектах влияния разговорного языка на письменный ойратский язык см. подробнее: [Rákos 2015; Яхонтова 2020; «Сутра Белого Старца»… 2023]), практически по всей рукописи, и более размашистого, «вытянутого» на л. 14. Впрочем, можно предположить, что переписчик был один, и отличие почерка на л. 14 можно объяснить усталостью автора рукописи. В пользу того факта, что это варианты одного почерка, говорят сохранение в обоих угловатой формы написания лабиальных гласных o и ö и аккуратная расстановка диакритики.
Далее рассмотрим некоторые графические особенности рукописи Calm C 17. Одним из признаков неклассической графики в ойратском «ясном письме» Н.С. Яхонтова называет одинаковое (округлое) написание лабиальных гласных o/ö и u/ü [«Сутра Белого Старца»… 2023, 71]. В данном аспекте почерк рассматриваемой рукописи можно назвать тяготеющим к классическому, поскольку в нем можно отметить написание букв o/ö, имеющее выраженную угловатую форму в сравнении с буквами u/ü. Исключение составляют случаи написания o/ö во «вписанной» позиции после согласных b, g, k, ҟ и твердорядного o в первом слоге после согласных x и γ. Что касается сочетаний o/ö с указанными согласными, Н.С. Яхонтова справедливо указывает, что «гласные o/ö угловатой формы в таких слогах – большая редкость, и если такую форму можно заметить в рассматриваемых текстах, то это скорее предвзятость восприятия, чем последовательно выписанная форма букв о/ö» [«Сутра Белого Старца»… 2023, 69]. Твердый o имеет округлую форму в некоторых словах, начинающихся с сочетаний xo/γo – xorin, xoyin, xoyino, γomdol, γom, γosūn, что можно объяснить тем, что первый согласный уже указывает на твердый ряд слова, поэтому o в таком написании никак не может быть прочитано как ü. Тем не менее в большинстве слов с сочетанием xo/γo в первом слоге буква o имеет квадратную форму (слова xoyor, xongγor, xonoq, γol и др.).
Стоит отметить, что три типа почерка, установленные в рукописи Calm C 4 Малодербетовского цикла [Мирзаева 2021, 426–427], отличаются от Calm C 17 в первую очередь написанием букв o/ö , которые имеют округлую форму и, таким образом, совпадают по написанию с u/ü . Диакритика при мягком ö в рукописи Calm C 17 присутствует всегда, без нарушений орфографии; при твердом u отсутствует (1) в случае присутствия перед ним других индикаторов ряда в первом слоге, например, твердых гласных ( tašuu , oruulǰi , mandaluulba , baruun ) или согласных x и γ ( xulbi , xumaxi , xurdun , xurca , γučin , γurban , γuya ), причем интересно, что в данном случае ключевую роль имеет позиция первого слога: если указанные согласные x и γ находятся во втором слоге, а гласный u – в первом, то диакритика при нем ставится (см. слова zurγān , dungγarān , burxan ); (2) в позиции второго гласного в сочетаниях uu , ou ( uula , suudaq , tuulan , zoun , doun ), что в принципе считается исследователями негласным правилом ойратской орфографии [Rákos 2015, 105; «Сутра Белого Старца»… 2023, 69].
Другой диакритический знак, использование которого позволяет нам отличить классический текст от неклассического, – это знак долготы удан . В рассматриваемом тексте он употребляется довольно регулярно при долгих гласных ā , ē , ī , o/ö , u/ü (последнее в целом не характерно для ойратских текстов, в которых обычно долгие лабиальные u/ü передаются различными сочетаниями двух гласных ( ou , uu , öü , üü )). Удан по большей части используется корректно, за исключением отдельных неправильных написаний, например, γosūn – прав. γosun , badmā – прав. badma . Случаи использования знака удан в рукописи демонстрируют процесс преобразования дифтонгов в долгие гласные, о которых на материале других памятников ойратского письма XIX в. также пишут Д.А. Павлов, А. Ракош, Н.С. Яхонтова [Павлов 1994, 203–213; Rákos 2015, 109; «Сутра Белого Старца»… 2023, 75]: см. примеры abā – классич. abai , sīleǰi – классич. siyileǰi , nükǖni – классич. nüküyini , čīriq – классич. čiyiriq , kīsen – классич. kiyisen .
Отдельно стоит рассмотреть графему ᡚ, которая транслитерируется нами как ǯ и использование которой в числе основных букв ойратского алфавита характерно именно для старокалмыцкого языка второй половины XIX – начала XX в. (см. подробнее: [Мирзаева 2023]). Изначально данная буква входила в состав транскрипционного алфавита галик, предназна- чавшегося для передачи на монгольском и ойратском письме иноязычных слов, в первую очередь санскритских и тибетских, и передавала тибетский слог bya (ч^). Ойратский вариант галика, созданного на основе старомонгольского письма переводчиком Аюши-гуши, был разработан создателем ойратского «ясного письма» Зая-пандитой Намкай Джамцо (1599–1662).
Знак ǯ , по мнению Д.А. Павлова, был введен в старокалмыцкий алфавит как аллограф согласного ǰ для обозначения фонемы [дж] в иноязычных словах и словах, подвергшихся перелому гласного i [Павлов 1983, 12]. В данной связи интересно отметить, что этот графический знак используется в написании имени главного героя эпоса «Джангар», относительно этимологии которого существуют разные точки зрения: от иранского джи-хангир через тюркские языки [Бобровников 1854, 100–101; Владимирцов 2003, 338; Poucha 1961, 238]; искаженное от имени Чингис [Козин 1948, 120]; от тюркской лексемы со значением ‘одинокий’, ‘сирота в поколениях’ [Кичиков 1976, 40] (в пользу данной гипотезы см. пратюркск. йалңы:з ‘единственный, одинокий’ (кирг. җаңғыз , каз., кирг. жалғыз ) [Этимологический словарь тюркских языков… 1989, 98]); и пр. Если исходить из утверждения Д.А. Павлова относительно употребления буквы ǯ в памятниках старокалмыцкого языка, то либо имя Джангар считалось заимствованием, либо его более ранние инварианты содержали слог ǰi . Поскольку ни в одном из зафиксированных текстов «Джангара» не встречается вариант имени главного героя, начинающийся с сочетания с гласным i , мы можем предположить, что в период фиксации ранних записей Багацоху-ровского и Малодербетовского циклов эпоса (рубеж 50-60-х гг. XIX в.) в народном сознании имя Джангар воспринималось как иноязычное, заимствованное из другого языка. Возможно, на этом основывается и мнение А.А. Бобровникова, который предлагает три варианта этимологии имени (во всех случаях это заимствования): от тиб. spyan ras gzigs ‘ букв. взирающий очами, бодхисаттва Авалокитешвара’ (в монголизированном произношении – Джанрайсиг), от тиб. rgyan dkar ‘имеющий белые украшения’ (в монголизированном произношении – Джангар); от иранск. djihanguir (в записи А.А. Бобровникова) ‘владыка мира’ [Бобровников 1854, 102].
Как установлено автором в другой публикации [Мирзаева 2023, 46], в лексикографических источниках старокалмыцкого языка, начиная с конца XVIII в. и вплоть до 30-х гг. XIX в. (см. калмыцко-шведский словарь К. Рамна, составленный по завершении миссионером проповеднической деятельности среди калмыков в 1817–1825 гг. [Cornelius Rahmn’s Kalmuck Dictionary 2012, 3]), употребление знака ǯ регламентировалось правилами тибетской орфографии, когда в сочетании с гласным a последний не прописывался отдельным зубцом, а входил в слог по умолчанию. Анализ рукописи Calm C 17 позволяет скорректировать данный вывод и указать в качестве верхней границы 50–60-е гг. XIX в., а именно 1856 г., когда была записана рукопись с песнями Багацохуровского цикла. Графема ǯ в сочетании с гласным a встречается в двух словах – ǯangγar ‘Джангар’ и damǯād (форма разделительного деепричастия от глагола damǰixu ‘переходить от одного к другому, торговать’) – и в обоих случаях не прописывается.
При сравнении с рукописью Малодербетовского цикла Calm C 4 1862 г. записи интересно отметить, что в ней данный способ написания сочетания ǯa , когда зубец для гласного a отсутствует, встречается только в написании имени собственного ǯangγar ‘Джангар’, причем уже неустойчиво, и ближе к концу второй тетради чаще встречается написание с отдельным зубцом для a , как и в остальных словах: ǯavā , damǯad , namǯal , ǯaǯilad , širǯangnēd , šagiǯangneqsün , sanǯalaγai , ǯalgel ügē , ǯanggineba , tasǯad , xaraǯai ). В данной рукописи графема ǯ имеет особый вариант написания, когда конец, имитирующий тибетскую подписную ya ятаг (тиб. ya btags ), прописывается не угловато, а образуя своеобразную петлю.
За исключением форм отдельных букв (например, нестандартной формы написания лигатуры ng , в которой g имеет не округлую, а скорее заостренную форму, напоминая таким образом букву s ), графику рукописи Calm C 17 можно охарактеризовать как тяготеющую к классической ойратской орфографии. Тем не менее в языке рассматриваемого памятника обнаруживаются отдельные аспекты влияния разговорного языка, описанные А. Ракошем и Н.С. Яхонтовой, такие как:
-
1) редукция букв – arsun , baqsen , suuxlāran . Также можно упомянуть в данном контексте случаи написания аффикса причастия прошедшего времени -qsan / -qsen (встречаются также варианты –qsun / -qsün (единично -qson / -qsön ) как результат прогрессивной ассимиляции) без согласного q , в силу чего написание приближается к современному: ср. üküsün (клас-сич. üküqsen ) – соврем. калм. үксн , oҟosan / orҟosun (классич. Oҟoqsan / orҟoqsan ) – соврем. калм. орксн ;
-
2) вставка гласных (об этом явлении пишет В.Л. Котвич: «В настоящее время многие, стараясь писать так, как писал в свое время Зая-Пандита, вставляют выпавшие гласные. Не зная, однако, хорошо, какие гласные выпали и где именно, часто вставляют другие гласные и при том там, где их никогда не было раньше» [Котвич 1929, 16]): bar a siyin – прав. barsiyin , or o ҟoqsan – прав. orҟoqsan , töb e šüün – прав. töbšüün , xur a dun – прав. xurdun , mor a doba – прав. mordoba ;
-
3) непоследовательное отображение кратких гласных непервого слога, что, по мнению А. Ракоша, обусловлено их нейтрализацией в разговорном языке [Rákos 2015, 107]. В первую очередь это касается способов написания аффиксов причастий прошедшего ( -qsan и его инварианты) и настоящего ( -daq и его инварианты) времени: tabuulaqs u n / tabuuleqs e n , abaqs u n , salaqs u n , γarγaqs u n , xācuuluuleqs e n , baqs e n , bariqs e n , bayid u q , sonosoqdud u q . Подобные написания, как объясняет Н.С. Яхонтова, связаны с нецелесообразностью точного обозначения неясного гласного [«Сутра Белого Старца»… 2023, 78];
-
4) прогрессивная ( yes e n – классич. yesün , xubil ē d – классич. xubilād , talib ē d – классич. talibād , tabid i q – классич. tabidaq ) и регрессивная ( y o boγōr , y o boγon , y o banai – от глагола yabuxu ) ассимиляция;
-
5) изменение ряда гласных слова, отражающее разговорное произношение и приближенное к современному языку: m ö rilxulāran – форма последовательного деепричастия от глагола ‘отправляться в путь’ (классич.
morilxu , соврем. калм. морлх ), z o rimoyaran / z o rimyaran - форма орудного падежа от прилагательного ‘смелый, решительный’ (классич. zorimoq , соврем. калм. зөрмг ).
Одним из основных аспектов влияния разговорного языка на ойрат-ское «ясное письмо» исследователи считают переход дифтонгов в долгие монофтонги [Rákos 2015, 109; «Сутра Белого Старца»… 2023, 75]. Примеры данного графо-фонетического явления в рассматриваемом тексте приведены выше, при рассмотрении особенностей использования диакритического знака долготы.
Влияние разговорного языка в рукописи Calm C 17 можно отметить и на уровне грамматики. В падежной парадигме, представленной в языке памятника, мы видим отход от классического ойратского письма и использование других формантов, например, аффиксов родительного падежа – ān / -ēn ( uulān , ǰidēn ), орудного падежа -ār / -ēr / - īr / -ōr ( ǰirγalār , bolodār / boldōr / bolodōr , arzār , ǰidēr , nerēr , erdenīr ), исходного падежа -āsu / -ēsü / -ōsu ( usunāsu , γazarāsu , üülenēsü , šorōsu ), совместного падежа -lai ( nadlai ). Несомненный интерес представляют падежные формы притяжательного склонения, среди которых одной из наиболее частотных является форма дательно-местного падежа -duni / -düni : bolγon-du-ni , tāralangduni , xaǯuuduni , köbȫdüni , köldüni , öüden-düni (причем встречается как слитное написание основы с аффиксом, так и отдельное написание одного или двух аффиксов); форма предварительного деепричастия на -ma / -me : manama , barima , tōloqduma , ergeme ; форма преждепрошедшего времени на -la / -le : genē-la , поскольку перечисленные формы, встречающиеся в различных грамматиках современного калмыцкого языка (см. [Грамматика калмыцкого языка 1983]), не упоминаются в имеющихся исследованиях ойратского (старокалмыцкого) языка.
Рукопись двух песен Багацохуровского цикла Calm C 17, которую по праву можно назвать одной из наиболее ранних записей эпоса «Джангар» на ойратском «ясном письме», дошедших до наших дней, представляет собой ценный источник по старокалмыцкому языку середины XIX в., анализ которого позволит получить более ясное представление о различных процессах в развитии графики и письменного языка данного периода. Проведенное исследование показывает, что графика памятника тяготеет к классическому ойратскому письму, сохраняя угловатую форму написания лабиальных o/ö и корректную расстановку диакритических знаков; нестандартное написание можно отметить только у сочетания ng. Знак ǯ, изначально входивший в транскрипционную систему галика и в XIX в. перешедший в состав старокалмыцкого алфавита, в рассматриваемом тексте встречается довольно часто, в том числе и в написании имени главного героя эпоса, что может в дальнейшем быть учтено исследователями при обсуждении проблемы его этимологии. Кроме того, нами отмечено, что в рукописи Calm C 17 в отображении данного знака в сочетании с гласным a на письме переписчик следовал нормам тибетской орфографии, не прописывая его отдельным зубцом, в то время как в другой рукописи «Джанга-ра» Calm C 4 1862 г. гласный a в данном сочетании уже обозначается, что говорит об изменении орфографических норм в старокалмыцком письме за довольно короткий период в шесть лет. Анализ языковых особенностей текста рукописи позволяет сделать вывод о сильном влиянии разговорного языка как на уровне орфографии (редукция, вставка графем, непоследовательное отображение гласных непервого слога, ассимиляция гласных, изменение ряда слова и т.д.), так и на уровне грамматики (использование падежных аффиксов, отличных от тех, что используются в классическом ойратском языке, включая формы притяжательного склонения; глагольные формы предварительного деепричастия на -ma / -me и преждепрошед-шего времени на -la / -le). В заключение повторимся, что оригинальные записи эпоса «Джангар» на «ясном письме», помимо несомненной своей ценности в контексте калмыцкого фольклора, представляют интерес и для междисциплинарных исследований на стыке с текстологией, лингвистикой и другими направлениями научного знания.
Список литературы Некоторые особенности графики и грамматической системы старокалмыцкого языка середины XIX в. (на материале рукописи багацохуровского цикла эпоса «Джангар»)
- РО БВФ СПбГУ. Calm C 17 - Джангара // Рукописный отдел библиотеки восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Шифр Calm C 17. Инв. № 1770/36. Прежний шифр Xyl. F 63. Коллекция Голстун-ского (1857), № 2.
- РО БВФ СПбГУ. Calm C 4 - Джангара (список М. Дербетовского улуса). 1-я и 2-я тетради // Рукописный отдел библиотеки восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Шифр Calm C 4. Инв. № 1834, 1835. Прежний шифр Xyl. Q 544. Коллекция Голстунского (1862), № 3.
- Бичеев Б.А. В.Л. Котвич о записи песен «Джангара» // Бюллетень Калмыцкого научного центра Российской академии наук. 2018. № 3. С. 5-33.
- Бобровников А.А. Джангар (народная калмыцкая сказка) // Вестник Императорского Русского географического общества. 1854. Ч. XII. С. 99-128.
- Владимирцов Б.Я. Работы по литературе монгольских народов. М.: Восточная литература, 2003. 603 с.
- Грамматика калмыцкого языка / отв. ред. Э. Ч. Бардаев. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1983. 335 с.
- ДацЬр. Хальмг баатрлг дуулвр (25 белгин текст) (= Джангар. Калмыцкий героический эпос (тексты 25 песен)) / сост. А.Ш. Кичиков; ред. Г.И. Михайлов. Т. 1. М.: Наука, 1978. 441 с.
- Кичиков А.Ш. Героический эпос «Джангар». Сравнительно-типологическое исследование памятника. М.: Восточная литература, 1992. 320 с.
- Кичиков А.Ш. Исследование героического эпоса «Джангар» (Вопросы исторической поэтики). Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1976. 156 с.
- Козин С.А. Эпос монгольских народов. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1948. 248 с.
- Котвич В.Л. Опыт грамматики калмыцкого разговорного языка. Прага: Калмыцкая комиссия культурных работников в Чехословацкой Республике, 1929. 418 с.
- Мирзаева С.М. К постановке проблемы ввода в научный оборот аутентичных записей фольклорных текстов (на материале Малодербетовского цикла эпоса «Джангар») // Новый филологический вестник. 2021. № 2(53). С. 422-429.
- Мирзаева С.М. О тибетской графеме bya в ойратском «ясном письме» // Урало-алтайские исследования. 2023. № 3(50). С. 42-55.
- Павлов Д.А. Вопросы истории и строя калмыцкого литературного языка. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1994. 270 с.
- Павлов Д.А. Фонетика современного калмыцкого языка. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1983. 207 с.
- Решетов А.М. К.Ф. Голстунский: жизнь и деятельность выдающегося монголоведа // Mongolica-V: сборник статей. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. С. 6-14.
- «Сутра Белого Старца» на «ясном письме»: Исследование, перевод, транслитерация, комментарий, факсимиле / под ред. Н.В. Ямпольской, Н.С. Яхонтовой. М.: Восточная литература, 2023. 335 с.
- Успенский ВЛ. Ойратские рукописи, поступившие в Санкт-Петербургский университет от К.Ф. Голстунского // Mongolica-V: сборник статей. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. С. 18-20.
- Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на буквы «ж;», «ж», «й» / отв. ред. Л.С. Левитская. М.: Наука, 1989. 292 с.
- Яхонтова Н.С. Особенности почерка и орфографии текста «Сутры Белого старца» (шифр В 228(1)) из собрания ИВР РАН // Oriental Studies. 2020. Т. 13. № 4. С. 1078-1091.
- Catalogue of the Mongolian Manuscripts and Xylographs in the St. Petersburg State University Library / compiled by V.L. Uspensky. Tokyo: Insitute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1999. 530 p.
- Cornelius Rahmn's Kalmuck Dictionary / transl. and ed. byJ.-O. Svantesson. Turcologica. Band 93. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012. 199 p.
- Poucha P. Zum kalmückischen Epos "Dzangar" // Central Asiatic Journal: Mongolische Miszellen. 1961. Vol. VI. № 3. S. 234-246.
- Rakos A. Colloquial Elements in Oirat Script Documents of the 19th Century // Rocznik Orientalistyczny. 2015. T. LXVIII. Zeszyt 2. P. 102-114.