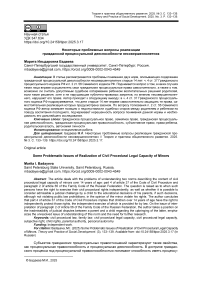Некоторые проблемные вопросы реализации гражданской процессуальной дееспособности несовершеннолетних
Автор: Бадаева М.И.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы понимания двух норм, описывающих содержание гражданской процессуальной дееспособности несовершеннолетних старше 14 лет: ч. 4 ст. 37 Гражданского процессуального кодекса РФ и п. 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ. Поднимается вопрос о том, в каких случаях такие лица вправе осуществлять свои гражданские процессуальные права самостоятельно, а также о том, возможно ли считать допустимым судебное оспаривание ребенком воспитательных решений родителей, если такие решения, хотя и не нарушающие публично-правовых запретов, по мнению несовершеннолетнего, нарушают его права. Автор приходит к следующему выводу: в ч. 4 ст. 37 Гражданского процессуального кодекса РФ подразумевается, что дети старше 14 лет вправе самостоятельно защищать те права, самостоятельная реализация которых предусмотрена законом. По вопросу толкования п. 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ автор занимает позицию о недопустимости судебных споров между родителем и ребенком по поводу воспитания последнего, подчеркивает нерешенность вопроса понимания данной нормы и необходимость его дальнейшего исследования.
Гражданское процессуальное право, семейное право, гражданская процессуальная дееспособность, гражданская процессуальная правоспособность, субъективное право, права ребенка, родительская власть, автономия личности
Короткий адрес: https://sciup.org/149148261
IDR: 149148261 | УДК: 347.634 | DOI: 10.24158/tipor.2025.3.17
Текст научной статьи Некоторые проблемные вопросы реализации гражданской процессуальной дееспособности несовершеннолетних
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, ,
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia, ,
альные права и нести процессуальные обязанности (Чечот, 1960: 21), а под дееспособностью – способность лично осуществлять процессуальные права и обязанности в ходе судебного процесса (Чечот, 1960: 23).
В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод1. Как установлено Гражданским процессуальным кодексом РФ (далее – ГПК РФ), за всеми гражданами, имеющими в соответствии с законодательством РФ право на судебную защиту прав, свобод, законных интересов, в равной мере признается процессуальная правоспособность (ст. 36)2. Из данных законоположений следует, что все граждане независимо от возраста обладают полной гражданской процессуальной правоспособностью.
Иначе решен вопрос гражданской процессуальной дееспособности: ее объем дифференцирован в зависимости от возраста. В соответствии с ч. 1 ст. 37 ГПК РФ с 18 лет гражданская процессуальная дееспособность принадлежит гражданам в полном объеме. В то же время лица от 14 до 18 лет, как установлено в ч. 4 ст. 37 ГПК РФ, в предусмотренных законом случаях вправе лично защищать в суде свои права, свободы, законные интересы. Данная норма порождает следующий вопрос: что подразумевается под «предусмотренным законом случаем»? Достаточно ли положения, наделяющего несовершеннолетнего возможностью самостоятельного осуществления того или иного материального права, или необходимо прямое указание на самостоятельную защиту ребенком такого права в суде?
Тесно связанным с данной нормой является пункт 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ, согласно которому при нарушении своих прав и законных интересов ребенок по достижении 14 лет вправе обратиться за их защитой в суд3. Второй вопрос, рассматриваемый в данной работе, состоит в том, как следует понимать данную норму в аспекте отношений родителя и ребенка, подразумевается ли в ней, что ребенок вправе предъявлять иски против своих родителей и, если да, то по каким основаниям?
Один из подходов, который можно встретить, например, в работе Д.М. Чечота, состоит в том, что «если закон признает несовершеннолетнего субъектом трудового или гражданского права и наделяет его способностью самостоятельно распоряжаться этим правом, очевидно, что несовершеннолетний должен обладать и средствами самостоятельной защиты предоставленных ему прав, т. е. обладать гражданской процессуальной дееспособностью» (1960: 26). Профессор К.С. Юдельсон в связи с этим писал, что «процессуальная дееспособность тесно связана с общегражданской дееспособностью», иллюстрируя этот тезис такими примерами, как самостоятельная судебная защита несовершеннолетним своих прав по искам из причинения вреда, из трудовых правоотношений, а также из любых сделок, по которым лицо распоряжалось своей заработной платой4. Данная позиция заключается в том, что лица в возрасте от 14 до 18 лет «обладают ограниченной процессуальной дееспособностью» (Чечот, 1960: 26): ее границы соответствуют границам, в которых закон допускает самостоятельную реализацию несовершеннолетним своих материальных прав и обязанностей. Исходя из такого подхода, для признания за несовершеннолетним права самостоятельно защищать свое право в суде не требуется специальное указание закона – достаточно положения о том, что такое право ребенок вправе самостоятельно реализовывать. Такой взгляд на проблему можно встретить и в работах современных авторов5.
Догматическое обоснование изложенной позиции можно вывести из такого понимания субъективного права, в соответствии с которым его неотъемлемым, принципиальным свойством является правомочие обращения к государственному аппарату принуждения для его (права) реализации. Такое понимание субъективного права можно встретить, например, в работе О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородского, которые писали, что «возможность прибегнуть к принудительной силе государственного аппарата существует не параллельно с другими возможностями, а свойственна им самим, так как без этого они не были бы юридическими возможностями» (1961: 223). Основываясь на таком подходе, можно прийти к выводу о том, что наделение несовершеннолетнего возможностью самостоятельно реализовывать право включает и правомочие на самостоятельную его защиту, так как последнее – неотъемлемая часть самого субъективного права.
В литературе встречается и противоположная позиция (далее – вторая позиция/концеп-ция), состоящая в том, что под «случаями, предусмотренными законом» следует понимать ис- ключительно «нормы, прямо указывающие на процессуальную дееспособность»1. Тезис аргументируется следующим образом. Если бы речь в ч. 4 ст. 37 ГПК РФ шла только о норме, наделяющей ребенка возможностью самостоятельно реализовывать свое право, то должна была бы считаться излишней часть 2 ст. 37 ГПК РФ, которая гласит: «Несовершеннолетний может лично осуществлять свои процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности в суде со времени вступления в брак или объявления его полностью дееспособным (эмансипации)». Системное толкование ч. 4 ст. 37 ГПК РФ и ч. 2 ст. 21, ст. 27 Гражданского кодекса РФ и так приводит нас к выводу о том, что вступившие в брак или эмансипированные несовершеннолетние обладают полной процессуальной дееспособностью, поскольку Гражданский кодекс РФ наделяет их полной материальной дееспособностью. Если считать, что наличия материально-правовой нормы, предоставляющей ребенку возможность самостоятельно реализовывать то или иное субъективное право (в данном случае – все субъективные права, поскольку речь идет о приобретении полной материальной дееспособности), достаточно для признания за ним процессуальной дееспособности для защиты такого права, то ч. 2 ст. 21, ст. 27 Гражданского кодекса РФ необходимо считать достаточными для признания за вступившими в брак или эмансипированными несовершеннолетними полной процессуальной дееспособности. В таком случае норма ч. 2 ст. 37 ГПК РФ является лишней, чего быть не может, а потому под названным в ч. 4 ст. 37 ГПК РФ «случаем, предусмотренным законом», как считают авторы описываемой концепции, следует понимать прямое указание закона на возможность несовершеннолетнего самостоятельно защищать право в суде.
С данным тезисом трудно согласиться, поскольку ч. 2 и 4 ст. 37 ГПК РФ не идентичны. Особенность ч. 4 ст. 37 состоит в том, что в ней предусмотрено привлечение по усмотрению суда к участию в деле родителей, и, хотя правовая природа такого участия не вполне ясна2, как таковое указание на это в ч. 4 демонстрирует разницу в подходах законодателя к двум ситуациям.
В нормах материального права отсутствуют примеры специального установления полной процессуальной дееспособности несовершеннолетних. Примеры, которые приводят в обоснование своих взглядов сторонники второй позиции, сводятся к нормам, где судебная защита упоминается только в пределах указания на возможность самостоятельного обращения в суд, однако такие примеры представляются некорректными, поскольку неверно связывать право на самостоятельное обращение в суд и процессуальную дееспособность. Правомочие возбудить процесс в защиту своего материального права – часть процессуальной правоспособности. Безусловно, существуют практические трудности в ее осуществлении ребенком, но юридических препятствий к подаче иска несовершеннолетним нет. По этому вопросу Е.В. Васьковский писал так: «Предъявить иск может каждый: и восьмилетний ребенок, и сумасшедший, и лишенный всех прав состояния… Но для того чтобы вести дело дальше… необходимо обладать: 1) …процессуальной правоспособностью, 2) …процессуальной дееспособностью»3. Аналогичную позицию отмечаем у Д.М. Чечота: «наличие процессуальной правоспособности у истца и ответчика является необходимой предпосылкой права на предъявление иска» (1960: 25).
Следовательно, указание закона на возможность самостоятельного предъявления в суд иска не может пониматься как предоставляющая правомочие самостоятельно такой иск поддерживать. Нормы же, в которых содержалось бы правило не только о самостоятельном предъявлении иска, но и о самостоятельном участии в возбужденном по такому иску процессе, в законодательстве отсутствуют. Следовательно, исходя из второй концепции, даже ст. 1074 ГК РФ нужно считать «недостаточной» для предоставления возможности достигшему 14 лет несовершеннолетнему ответчику самостоятельно участвовать в процессе по предъявленному к нему деликтному иску.
Из изложенного следует, что вариант толкования ч. 4 ст. 37 ГПК РФ, предлагаемый сторонниками второй концепции, означал бы, что ч. 4 ст. 37 ГПК РФ – «пустая» норма, поскольку ни одного «случая, предусмотренного законом» в том понимании, которое предлагает эта концепция, в законодательстве нет. Более корректной по этой причине представляется позиция, заключающаяся в том, что указание закона на возможность самостоятельно реализовывать то или иное право является достаточным для «приведения в действие» ч. 4 ст. 37 ГПК РФ.
Следующая ступень описанной проблемы состоит в понимании тесно связанной с ч. 4 ст. 37 ГПК РФ нормы – п. 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ. Согласно данной норме при нарушении своих прав и законных интересов ребенок по достижении возраста 14 лет вправе обратиться за их защитой в суд.
Проблема заключается в определении того, по каким делам Семейный кодекс РФ наделяет ребенка правомочием самостоятельно осуществлять процессуальные права. Так, формулировка
«при нарушении прав и законных интересов ребенка» наводит на мысль о том, что с 14 лет можно самостоятельно защищать в суде любое нарушенное право, однако такой подход неверен, поскольку означает, что Семейный кодекс РФ вопреки положениям ГПК РФ предоставляет 14-летним подросткам полную процессуальную дееспособность.
Иной подход, разделяемый большинством исследователей, заключается в том, что второй абзац п. 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ необходимо толковать в системной связи с абзацем первым, в котором указывается на право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей. Сторонники этой позиции считают, что п. 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ «затрагивает лишь семейную сферу» и является «исключением из правил о дееспособности, призванным защищать ребенка от его же законных представителей»1.
При таком подходе тем не менее остается неясным, по каким именно спорам законодатель допускает предъявление ребенком иска против родителей. Если понятие «злоупотребление родительскими правами» имеет более или менее ограниченный объем (его в литературе определяют, как правило, как «нанесение побоев, иные недопустимые методы воспитания, эксплуатация детского труда»2), то формулировка «невыполнение или… ненадлежащее выполнение родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка»3 является гораздо более расплывчатой. Когда одни исследователи указывают на «уклонение от предоставления содержания, от уплаты алиментов»4, то иные толкуют норму более широко и называют также «унижение достоинства ребенка, нарушение его права на выражение собственного мнения»5.
Существует и подход еще более широкого толкования обсуждаемой нормы, который состоит в следующем. Поскольку второй абзац п. 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ начинается словами «при нарушении прав и законных интересов ребенка», необходимо считать, что каждое нарушение родителем любого права ребенка является поводом к иску против родителя. С точки зрения буквального толкования второго абзаца п. 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ такая позиция является абсолютно правомерной. Тем не менее такой подход выступает проблемным с позиции сущности отношений родителя и ребенка, поскольку во многом отрицает либо существенно искажает сам феномен воспитания. Поясним этот тезис на примерах.
Несовершеннолетние наделены в том числе такими правами, как право «на воспитание своими родителями, образование, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства»6, право исповедовать религию, действовать в соответствии с религиозными убеждениями, на свободу творчества и иные. Они перечислены в числе прочих в ратифицированной РФ Конвенции о правах ребенка7, Конституции РФ и Семейном кодексе РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ родители «обязаны содержать своих несовершеннолетних детей». В соответствии с ч. 2 ст. 27 Конвенции о правах ребенка «родитель (и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка».
Из буквального толкования данных норм следует, что обеспечение реализации прав ребенка, в том числе финансовое, – обязанность родителя. В таком случае возникает вопрос: предоставляет ли п. 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ достигшим 14 лет детям право предъявить родителям иск о понуждении к исполнению этой обязанности? Возможно ли, например, требование об обязании родителя оплатить обучение ребенка в музыкальной школе или занятия с репетитором? Может ли ребенок через суд понудить родителя предоставлять специальный рацион в соответствии с его религиозными убеждениями или обязать родителя приобрести ребенку музыкальный инструмент?
Ответ на этот вопрос невозможно сформулировать, опираясь исключительно на нормативную базу. Релевантная судебная практика по проблеме отсутствует. Объем настоящей работы не позволяет дать на поставленный вопрос исчерпывающий ответ, однако мы попытаемся раскрыть сущность интересов и ценностей, противостоящих друг другу в ситуации конфликта родителя и ребенка, – именно разрешение ценностного конфликта может дать ключ к преодолению обозначенной проблемы.
На одной чаше весов находится интерес автономии личности несовершеннолетнего, на другой – родительская власть. Родительская власть – термин, почти не встречающийся в современной юридической литературе. Тем не менее этот институт на протяжении длительного времени был в России законодательно закреплен, до тех пока в 1917 г. не был заменен понятиями «родительские права и обязанности». В дореволюционном законе указывалось, что «власть родительская простирается на детей обоего пола и всякого возраста» (ст. 164), а также (что представляет особый интерес при исследовании поставленного вопроса) специально устанавливалось, что от детей на родителей «в личных обидах или оскорблениях… не приемлется никакого иска, ни гражданским, ни уголовным порядком» (ст. 168)1. Комментируя изменения и переход к «новому семейному праву», А.Г. Гойхбарг в 1918 г. писал: «Родительская власть должна быть предоставлена не как право, а как обязанность по отношению к детям, и лишь постольку, поскольку осуществление этой власти не вредит интересам детей и не нарушает их личных прав» (1918: 68).
Со сменой наименований не изменилась сущность рассматриваемых явлений. Трудно отрицать, что феномен воспитания предполагает власть родителя над ребенком, т. е. возможность определять его поведение. Предоставить ребенку возможности оспаривать в суде воспитательные действия родителя означает, по сути, отказать родителю в праве на воспитание. При этом не имеет значения исход судебного рассмотрения спора. Сам факт того, что родительское решение ставится под сомнение и родитель оказывается обязанным доказывать свою правоту суду, низводит какой бы то ни было родительский авторитет и, как представляется, делает невозможным или по крайней мере существенно усложняет дальнейшее воспитание ребенка.
Еще одной проблемой, которую отмечают в литературе, является допускаемая при рассмотрении таких дел значительная степень вмешательства государства в семейную жизнь граждан. В сущности, передача спора в суд означает передачу воспитательной власти по предмету спора из рук родителей в руки судьи. Судья в таком случае решает, соответствует ли интересам ребенка, например, обучение в музыкальной школе или посещение спортивной секции. Исследователи в связи с этим отмечают, что позволить судье, впервые в жизни увидевшему ребенка, принимать решения о его жизни (Guggenheim, 2018), при этом отстраняя от таких решений родителя, вряд ли соответствует интересам несовершеннолетнего истца.
Наконец, допущение таких исков означало бы отказ родителям в праве воспитывать ребенка по своему усмотрению. Интересно в связи с этим обратиться к доктрине США (в этой стране исследуемая проблема довольно интенсивно обсуждается юристами). Как указывает М. Гуггенхайм, родительство воспринимается многими людьми как главная социальная роль (Guggenheim, 2007: 32). Право рожать и воспитывать детей по своему усмотрению – часть автономии личности, реализация этого права, как указывает автор, наполняет жизнь человека смыслом. Примечательно, что родительская власть, свободная от несоразмерных государственных ограничений, в американской правовой системе воспринимается как одна из конституционных свобод, а в ее доктрине и практике до сих используют термин Parental authority наряду с Parental rights.
Феномен автономии личности ребенка требует внимательного изучения. С одной стороны, Конституция РФ не ограничивает объем прав граждан в зависимости от возраста, а Конвенция о правах ребенка содержит перечень «специальных» прав несовершеннолетних, среди которых и так называемые «права участия» (Wall, 2010: 123), под которыми понимаются право свободно выражать взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка (ст. 12), свобода слова (ст. 13), свобода ассоциации и мирных собраний (ст. 15), право на личную, семейную жизнь, неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции и защиту от незаконного посягательства на его честь и репутацию (ст. 16), право на доступ к информации (ст. 17). Названные права, кроме права на неприкосновенность, в классификации Г. Еллинека соответствуют так называемым правам status activus, описывающим участие человека в гражданской жизни, «создании» государства, воспринимаемого как результат активности его граждан (2004). Иными словами, с точки зрения набора прав, описываемых Конституцией РФ и Конвенцией о правах ребенка, несовершеннолетние обладают автономией личности.
С другой стороны, философы эпохи Просвещения, авторы концепции прав человека и автономии личности никогда не подразумевали, что дети обладают правом независимости от собственных родителей, и не отрицали родительской власти. Напротив, должное семейное воспитание, с их позиции, должно было позволить ребенку созреть, пройти становление, чтобы в конце концов вырасти во взрослого, обладающего качествами, соответствующими идеалам эпохи Просвещения, – честностью, верностью долгу, активностью и инициативностью.
Так, Дж.С. Милль в трактате «О свободе» пишет: «Человек есть неограниченный властелин над самим собой, своим телом и своею душой… все вышесказанное относится лишь к людям, обладающим вполне зрелыми душевными способностями. Мы говорим не о детях или молодых людях, которые не достигли того возраста, который установлен законом для несовершеннолетних. Те же, которые находятся еще в таком возрасте, когда приходится другим заботиться о них, должны быть так же бдительно охраняемы от собственных поступков, как охраняют их от внешних зол» (1901: 23).
В работе Дж. Локка читаем: «хотя все люди по природе равны… не следует понимать так, что это равенство распространяется на всё: возраст или добродетель могут давать людям справедливое превосходство… <…> … дети не рождаются в этом состоянии полного равенства , хотя они рождены для него. Когда они появляются на свет и в течение некоторого времени после этого, их родители обладают своего рода господством и юрисдикцией над ними…» (2020: 275).
Ж.-Ж. Руссо, указывая, что, «рождаясь, мы уже тем самым приобретаем права граждан», тем не менее подчеркивает, что «миг нашего рождения должен быть и началом отправления наших обязанностей. Если есть законы для зрелого возраста, должны быть законы для детства, которые должны учить ребенка повиноваться другим» (1998: 174).
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что прямое применение принципа автономии личности несовершеннолетних к их отношениям с родителями приводит к искажению самой сущности этого института: автономия личности недостижима без должного воспитания этой личности, а потому не может являться для воспитания препятствием.
На данном этапе исследования представляются верными следующие ответы на поставленные вопросы. Ч. 4 ст. 37 Гражданского процессуального кодекса РФ следует понимать как предоставляющую возможность несовершеннолетним самостоятельно защищать в суде те права, самостоятельная реализация которых предусмотрена законом.
П. 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ, по-видимому, нельзя понимать как допускающий судебные споры несовершеннолетних с родителями по вопросам воспитания. Иное отрицало бы родительскую власть, дезавуировало бы саму сущность воспитания и представляло бы собой искажение сути автономии личности несовершеннолетнего. Вопрос о том, как следует понимать п. 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ, остается открытым и нуждается в дальнейшем исследовании.
Список литературы Некоторые проблемные вопросы реализации гражданской процессуальной дееспособности несовершеннолетних
- Гойхбарг А.Г. Новое семейное право: введение; вступление в брак; недействительные браки; прежние браки; прекращение брака и развод; отношения супругов; родители и дети; опека. М., 1918. 88 с.
- Еллинек Г. Общее учение о государстве / вступ. ст. И.Ю. Козлихина. СПб., 2004. 752 c.
- Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М., 1961. 381 с.
- Локк Дж. Два трактата о правлении / пер. с англ. Е.С. Лагутина, Ю.В. Семенова: 4-е изд. М.; Челябинск, 2020. 496 с.
- Милль Дж.С. О свободе / пер. М.И. Ловцовой. СПб., 1901. 237 с.
- Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты: пер. с фр. М., 1998. 416 с.
- Чечот Д.М. Участники гражданского процесса. М., 1960. 190 с.
- Guggenheim M. The (not so) new law of the child // Yale Law Journal Forum. 2018. Vol. 127, no. 3. P. 942-959.
- Guggenheim M. What's wrong with children's rights. Harvard, 2007. 320 p.
- Wall J. Ethics in light of childhood. Georgetown, 2010. 256 p.