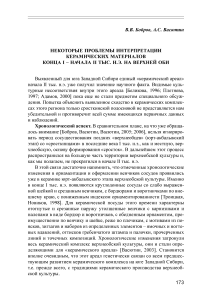Некоторые проблемы интерпретации керамических материалов конца I - начала II тыс. н.э. на Верхней Оби
Автор: Бобров В.В., Васютин А.С.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XIII, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521320
IDR: 14521320
Текст статьи Некоторые проблемы интерпретации керамических материалов конца I - начала II тыс. н.э. на Верхней Оби
В этой связи достаточно напомнить, что отмеченные хронологические изменения в орнаментации и оформлении венчиков сосудов проявились уже в керамике юрт-акбалыкского этапа верхнеобской культуры. Именно в конце I тыс. н.э. появляются круглодонные сосуды со слабо выраженной шейкой и срезанным венчиком, с бордюрами и воротничками по внешнему краю, с пониженным индексом орнаментированности [Троицкая, Новиков, 1998]. Для керамической посуды этого времени характерны отогнутые и срезанные наружу утолщенные венчики с карнизиками и налепами в виде бордюр и воротничков, с обедненным орнаментом, преимущественно по венчику и шейке, реже по плечикам, с мотивами из поясков, зигзагов и наборов из определенных элементов – ямочных и ногтевых вдавлений, оттисков гребенчатого штампа и палочки, прочерченных линий и точечных композиций. Хронологические изменения затронули весь керамический комплекс верхнеобской культуры, они и стали определяющими для «керамического ареала» [Васютин, 2003]. Становится вполне очевидным, что этот ареал генетически связан со всем предшествующим развитием керамического комплекса на юге Западной Сибири, т.е. прежде всего, с традициями керамического производства верхнеобской культуры.
Рис. 1. «Керамический ареал» на юге Западной Сибири в начале II тысячелетия.
1 – городище Городок (по Ю.В. Ширину, 2002); 2 – Нижнее Притомье (по Л.М. Плетневой, 1997); 3 – Среднее Причулымье (по О.Б. Беликовой, 1996).
Этнокультурный аспект. Выделенный «керамический ареал» является тем исходным фактом культурогенеза, который пока трудно объясним в рамках существующих этнокультурных схем. Возможным ответом на вопрос о том, что стоит за такой культурной группировкой, являются уже неоднократные попытки выделения нового культурного образования, пришедшего на смену «сросткам», какого-то третьего компонента, который ориентирован на басандайскую культуру Нижнего Притомья [Росляков, 2001].
Сторонники сплошной тюркизации Верхнеобья в начале II тыс. н.э. столкнулись с такой неоднородностью погребальных памятников, которую 174
невозможно объяснить только миграцией кочевников. Не случайно вопрос о развитии сросткинской культуры и ее неоправданно длинной хронологии до сих пор остается дискуссионным [Савинов, 1994]. Безусловно, в такой ситуации культурнодиагностирующие признаки должны включать все разнообразие материала без какой-либо его подгонки под ту или иную этнокультурную концепцию.
В поисках истоков басандайской культуры Л.М. Плетнева обращается прежде всего к традициям керамического производства «верхнеобцев» Томского Приобья. Вывод однозначен, басандайская керамика иная [Плетнева, 1997], но сама попытка такого сравнения достаточно симптоматична. Постановка вопроса о смене культур в Нижнем Притомье начала II тыс. уже предполагает принципиальное отличие «сросток» от басандайской культуры, тем более это относится к керамическому комплексу, который является частью «керамического ареала» юга Западной Сибири. Причина такого культурного единства Л.М. Плетневой видится только во влиянии сросткинской культуры, иные варианты вовсе не рассматриваются. Какого-либо полноценного сравнительного анализа с керамикой из верхнеобских памятников конца I тыс. не было проведено, хотя для Нарымского Приобья гребенчатые композиции на керамике начала II тыс. считаются продолжением традиций раннего средневековья [Плетнева, 1997]. В Томском Приобье ситуация аналогичная, гребенчатые композиции верхнеобской культуры (елочки, зигзаги, ромбы, косая и прямая гребенка), наряду с формами венчиков (срезанные наружу, с воротничками и бордюрами) получают широкое распространение в керамическом комплексе басандай-ской культуры [Плетнева, 1997].
Это, безусловно, указывает на истоки развития басандайских керамических комплексов на юге Западной Сибири [Васютин, 2003; Росляков, 2001]. Именно в этом типологическом соответствии керамических комплексов содержится ответ не только на вопрос о происхождении «басандай-ки», но и об иной концептуальной схеме этнокультурного развития при-томского региона. Этот вопрос может быть поставлен и сформулирован следующим образом, развитие культурных образований на юге Западной Сибири не носило прямолинейно эволюционного характера, связанного с последовательной сменой культур и этносов. Все более накапливается свидетельств в пользу синхронного сосуществования средневековых культур тюркского и угро-самодийского происхождения с последующей трансформацией верхнеобской в басандайскую культуру, включающей и тюркский компонент, но с доминированием традиций угро-самодийских этнических групп. Этот факт является ключевым моментом, с нашей точки зрения, во всей этнокультурной истории Притомья, лесостепного и южно-таежного Приобья и только он может объяснить почти что феерический взлет и появление в столь объемном и развитом варианте новой басандайской культуры с нетюркскими доминирующими традициями в керамическом комплексе и погребальном обряде.
На конец I тыс. н.э. приходится максимальное сокращение ареала верхнеобской культуры. Эта тенденция хорошо наблюдалась еще в отношении юрт-акбалыкского этапа, когда происходит явная концентрация памятников с кустовой структурой размещения в северных, подтаежных районах верхнеобского ареала [Троицкая, Новиков, 1998]. Появление в этих районах памятников сросткинской культуры документируется материалами закрытых погребальных комплексов не ранее середины X в. Эта ситуация наблюдается по всему верхнеобскому ареалу - в Новосибирском и Томском Приобье, в Кузнецкой котловине [Троицкая, 2002]. Начало II тыс. н.э. характеризуется также глобальной трансформацией этнокультурной ситуации, связанной с формированием на юге Западной Сибири новых культур или поздних этапов развития предшествующих культур (усть-ишимская, венгеровская и басандайская АК). Сросткинская же культура утрачивает в указанных районах свое доминирующее значение в первой четверти XI в. [Бараба, 1988; Савинов, 1994].
Исходя из этого, важнейшими культурогенетическими составляющими «событиями» на Верхней Оби и прилегающих территориях были: на протяжении последней четверти I тыс. н. э. здесь развиваются и сосуществуют два культурных образования, верхнеобская и сросткинская АК; смена культур на Верхней Оби не носила взрывного характера, этот процесс нельзя отождествлять с нашествием кочевников или их очередной «волной», которые могли бы привести к тотальному уничтожению субстратной культуры и полной ассимиляции местного населения; сосуществование двух культур сопровождалось своеобразным наложением двух родственных этнокультурных ареалов, что обусловило культурную дифференциацию на Верхней Оби в конце I тыс. н. э. и создало предпосылки для формирования новой, субстратной по преимуществу, басандайской культуры в Среднем и Нижнем Притомье (городище Городок, курганные могильники Порывайка, Зимник, Шумиха и Басандайский археологический микрорайон).