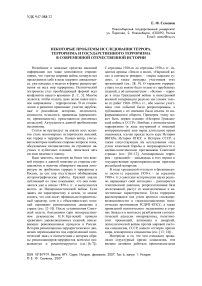Некоторые проблемы исследования террора, терроризма и государственного терроризма в современной отечественной истории
Автор: Семенов Е.Ф.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736819
IDR: 14736819 | УДК: 947.088:32
Текст статьи Некоторые проблемы исследования террора, терроризма и государственного терроризма в современной отечественной истории
Российские и западные средства массовой информации все чаще заполняются откровениями, что «третья мировая война, которую все представляли себе в виде ядерного апокалипсиса, уже началась и ведется в форме распространения на весь мир терроризма. Политический экстремизм стал преобладающей формой всех конфликтов нашего времени» [1. C. 3]. Многое делается, чтобы создать даже целое новое научное направление – террорологию. В ее становлении и развитии принимают участие зарубежные и российские историки, политологи, социологи, психологи, правоведы (криминологи, криминалисты), представители различных спецслужб. Актуальность данной проблематики несомненна.
Статья не претендует на анализ всех аспектов столь многомерных исторических явлений, как террор и терроризм. Однако автор, учитывая некоторые наиболее спорные вопросы темы, обсуждаемые специалистами на страницах научных и публичных изданий, попытался дать им свое видение и оценку.
Надо заметить, несмотря на более чем вековой интерес к данной тематике со стороны специалистов и наличие обширного массива литературы по проблемам террора и терроризма в России, до сих пор отсутствуют обобщающие историографические работы. Краткий анализ публикаций по теме показывает, что они появляются уже в начале 1870-х гг. и выпускаются вплоть до Империалистической войны. Если давать им характеристику в целом, то можно сказать, что они носят официально-охранительный характер, хотя и с объективистских позиций оценивают революционное движение в стране (см.: [2–5]). После установления Советской власти, большевики (при непосредственном руководстве Н. К. Крупской) провели «ревизию» дореволюционных изданий, описывающих революционные процессы в России. История революционно-террористического движения переписывается под определенный политический заказ, в соответствии с которым образы революционеров-террористов всячески возвышаются и романтизируются (cм.: [6; 7]).
С середины 1920-го до середины 1930-х гг. издаются архивы «Земли и воли», «Народной воли» в контексте ремарок – «перед царским судом», а также мемуары участников этих организаций (cм.: [8; 9]. О «красном терроре» узнать тогда можно было только из зарубежных изданий, а об антиcоветском – «белом» – терроре в годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции реально мы узнаем только из работ 1960–1970-х гг., ибо многие участники этих событий были репрессированы, а публикации c их именами были изъяты из информационного оборота. Примером этому может быть первое издание «Истории Гражданской войны в СССР». Вообще, с антисоветским терроризмом (в лице внутренней и внешней контрреволюции) наш народ длительное время знакомился, изучая прежде всего курс Истории ВКП(б), Истории КПСС и Истории СССР, а также сопутствующие им исследования «под углом классовой борьбы и непримиримости к идейно-политическим противникам Советской страны» (см.: [10–12]. Антинародным террором – «реакцией» – называлась в этот период и государственная правоохранительная практика российской монархии.
В годы хрущевской оттепели и брежневского застоя (с середины 1950-х – до середины 1980-х гг.) советская историческая наука реально наращивает свой потенциал – расширяется тематический диапазон, репрезентативная база исследований, растут ее количественные и качественные характеристики. Тогда терроризм рассматривался под углом критики «псевдореволюционности» и «псевдосоциализма» политических противников РСДРП–КПСС, а также проявлений политического экстремизма в странах Запада и в контексте разоблачения геополитической агрессии империализма, политических провокаций, шпионажа и диверсий, психологической войны против мировой системы социализма, СССР, нашего «отпора» врагам мира, демократии и социализма (см.: [13; 14]) .
Интересно и то, что чем очевиднее проявлялся структурный кризис социализма, тем внешне активнее работала пропагандистская
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2007. Том 6, выпуск 1: История © Е. Ф. Семенов, 2007
система. Факты террора не скрывались ни СМИ, ни специалистами-исследователями, ни представителями спецслужб. Другое дело, как и в какой мере, с какой глубиной они интерпретировались. Нередко ученые-обществоведы превращались в пропагандистов и забывали о том, что политический режим не раз использовал их «втемную». Он заставлял видеть не столько диалектику правды, факта, ценности научных достижений (в том числе и международной мысли), сколько отстаивать ценности социализма (бывало и псевдоценно сти), уповать на заклинания, догмы и отрицать факты, но «твердо стоять на политических позициях КПСС и правительства». Искажения истории не раз перетасовывались из книги в книгу многими поколениями заидеологизированных обществоведов.
После развала СССР, в условиях очередной исторической смуты (развал государственности, административно-территориальный передел, межэтнические, межконфессиональные конфликты и пр.) обстоятельства перевели вопрос о терроре и терроризме в практическую плоскость и поставили перед политическим руководством и российской наукой сложнейшую и чрезвычайно актуальную задачу. В ее решение включились и российские специалисты, в том числе и историки. Появились интересные и содержательные работы. Оценивая их, можно выделить такие черты: во-первых, за 15 прошедших постсоветских лет общество и наука стали более свободны от идеологических догматов; во-вторых, расширилась источниковая база исследований (в том числе и за счет новых, введенных в научный оборот, документов, роста информационных каналов, ускорения времени получения самой разнообразной информации, ее географии); в-третьих, новые методологические подходы позволили расширить тематический диапазон научной продукции (cм.: [15–17]).
Но и сегодня, несмотря на положительные перемены в общественных науках, некоторые исследования по данной тематике сохраняют явные просчеты. Если ценить методологию научного поиска, то можно заметить следующее: одни авторы нередко остаются заложниками академического догматизма советской эпохи, потому что и их исследования базируются, как и прежде, только на формационном подходе. Другие же признают исключительно цивилизационный подход (то ли в угоду моде, то ли политических предпочтений). Третьи вообще абстрагируются от науки и в своем псевдоноваторстве доходят порой до примитивного нигилизма, отрицая прямо или косвенно достижения предыдущего периода развития общественных наук. Однако хотелось бы напомнить, что у каждого из этих методологических подходов – формационного или цивилизационного, особенно для вскрытия проблем социальной сущ- ности государства и права, есть свои плюсы и минусы. Признано также, что они не исключают, а дополняют и углубляют друг друга, выступая надежными приемами понимания различных типов государств [18. C. 66–68]. Так что только понимание сущности цивилизационного и формационного подходов (как по отдельности, так и в комплексе), умение применять их в исследовательском процессе может стать надежной основой восстановления правдивой исторической картины.
Примером, иллюстрирующим подобные просчеты в методологии, может быть критика в адрес ряда докладчиков – участников VII научнопрактической конференции «Культура и образование этнических общностей Сибири. Судьбы народов России. Сибирь ХХ век» (апрель, 2004), высказанная в докладе А. Рудницкого на сайте партии Яблоко [19]. В частности, надо согласиться с ее автором, что нельзя оправдать сталинскую национальную политику «некомпетентностью коммунистов в сфере государственного управления» и нельзя считать современный политический терроризм «проявлением новой войны, войны цивилизаций». Обратив внимание на серьезную проблему – государственный терроризм, сам автор грешит излишней идеологичностью, клишированием дефинитивных стереотипов, далеких от системного содержания данного определения, и эклектичностью своей «цивилизационной» позиции. С одной стороны, он слишком далеко абстрагируется от исторической действительности, когда заявляет, что у нас «мэры и Президент предпочитают делать вид, что не замечают убийств десятков людей и избиений десятков тысяч», а с другой, – сомневается (!), что только демократия способствует формированию муль-тиэтнической самоиндентификации личности и преодолению терроризма. Таким образом, он сам навязывает откровенно пропагандистский и политически ангажированный вывод, что российское государство «с одной стороны подбрасывает дрова в костер экстремизма, а с другой – борется с терроризмом противоправными методами», т. е. искажает историю [19].
В связи с этим хотелось бы заметить: во-первых, в развитии человеческой цивилизации именно демократия и есть тот идеал, на который должны ориентироваться государства и отдельный человек-гражданин, то, что отделяет их от варварства (в смысле – крайней жестокости), а в данном случае, от того же террора и терроризма. Во-вторых, надо понимать, что разрушение сложившейся политической системы в СССР происходило параллельно с возникновением и развитием этнополитической напряженности и конфликтности. Причем в России этот процесс имел определенную специфику, обусловленную историческим и этнокультурным своеобразием ее регионов. Не надо забывать и то, что причинами этнонациональных конфликтов были и политические, и социальноэкономические, и культурно-идеологические, внутренние и внешние, в целом – исторические причины. Например, в контексте социологии – это причины, связанные с этническими характеристиками основных социальных групп общества или этнической стратификацией (неравномерным распределением национальных групп по различным ярусам общественной иерархии и соответственно неравными возможностями доступа к благам и социальным ресурсам). Если же рассматривать причины в контексте политологии, то это политические амбиции у части представителей этнических групп, составлявших «советский народ». Они тоже способствовали обострению межэтнической напряженности и эскалации ее до уровня открытого конфликта (особенно в вопросе о власти, стремлении местных элит к ее обладанию, о связях власти с материальными вознаграждениями в форме обеспечения доступа к ресурсам и привилегиям, о возможностях молниеносных карьер, удовлетворения личных амбиций). Все это и является ключом к пониманию причин роста этнического национализма, межэтнических конфликтов, а также обращения местных элит к национал-популизму, возникновению фактов антигосударственного терроризма.
Углубление экономической разрухи, нарастание социальной напряженности, политическая борьба, крушение прежних идеологических ориентиров и появление суррогатов, коррумпированность старых и новых бюрократических структур, паралич власти в центре и на местах, т. е. развал старого и отсутствие нового – вот общие черты конфликтов на этнической почве. История показывает: межнациональные коллизии во многих полиэтнических странах по своим масштабам, продолжительности и интенсивности значительно превосходили классовые и иные типы социальных конфликтов. Национальные трения были и будут существовать до тех пор, пока сохранятся национальные различия. Многонациональное общество изначально менее стабильно, чем этнически однородное общество, и суть национального вопроса сводится к тому, какая из двух противоположных тенденций – центробежная или центростремительная – возьмет верх и окажется доминирующей. Признание прав меньшинств не должно служить для государств, этнических групп и иных образований предлогом для нарушения или принижения индивидуальных гражданских прав, предусмотренных Пактом о гражданских и политических правах. Но, если желание какого-то народа «самоопределиться» представляет очевидную опасность для жизненных интересов других народов, оно мо- жет быть отложено или его условия могут быть модифицированы, а в экстремальных случаях решение о нем может быть отменено. Отделение не должно быть первым рассматриваемым вариантом при разрешении проблем этнического плюрализма. Оно часто приводит к насилию и к болезненным нарушениям в экономической и социальной сферах. Если государство демократическое, то возникающие в нем конфликты сопровождаются структурными изменениями самой политической системы государства, а если авторитарное – усилением репрессий и зажимом движений, что приводит к новым узлам напряженности. Здесь идут в ход и убеждение общественности – «торг при закрытых дверях», и использование президентских прерогатив. Урегулирование этнополитических проблем возможно и через успешное проведении экономических реформ. Кроме политического и экономического путей стабилизации этнополитического процесса может быть использован путь культурной модернизации. Он заключается в изменении такого положения дел, когда принадлежность человека к определенной этнической группе составляет сущность его идентичности. К числу мер, ведущих к разрешению этнических противоречий, можно отнести: передачу существенной доли власти этнорегио-нальным территориям; принятие избирательных законов, стимулирующих межэтнические переговоры; создание условий для роста благосостояния экономически неблагополучных меньшинств. Когда этнические группы требуют определенной доли должностей в государстве (и определенной доли государственных средств) в соответствии с долей в населении, этнополитика переходит в долевой национализм, который претендует не на территориальное господство, а на господство в первую очередь над подвижными общественными финансовыми средствами.
Демократия и национализм – плоды народного суверенитета, и между ними нет непреодолимого противоречия. Тем не менее они нуждаются в сознательном политическом и правовом компромиссе, которого каждый раз и в каждой конкретной ситуации необходимо добиваться заново. Именно на такой теоретической и политической основе государственное руководство РФ решает межнациональные конфликты сегодня. В настоящее время мы наблюдаем положительные результаты по преодолению этнополитического конфликта на территории Чечни, да и других субъектов России.
Хотелось бы обратить особое внимание противников нынешней российской демократии: сегодня на нее надо смотреть иначе. Другая сторона процесса демократизации – это совершенствование власти и государства (пусть медленное и противоречивое), движение в сторону правового государства. Не всем это нравится.
Однако на место былой рыхлости и неупорядоченности государственных институтов и власти пришла иерархическая конструкция, в которой в отношениях между Центром и субъектами федерации на первый план постепенно выходит повсеместное нормативное управление.
В соответствии с Конституцией, государственная власть укрепилась на основе государственной целостности РФ, единстве системы государственной власти, разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти ее субъектов, равноправии и самоопределении народов в РФ (ст. 5). Реализуется по Конституции РФ и принцип самоопределения народов. В Основном Законе под самоопределением понимается свобода каждого народа жить по собственным законам, под управлением избранных им самим властных структур, распоряжаться своей судьбой по своему усмотрению, не нанося ущерба свободе и законным интересам других народов и всей РФ. Да, в Конституции отсутствует право выхода из состава федерации. Но переход от унитаризма к реальному федерализму был сделан подписанием 31 марта 1992 г. Федеративного договора. Главный смысл договора заключается в том, что в нем намечена установка на отказ от гибридного характера Российской Федерации, в которой уживались одновременно федеративные и унитарные принципы. Так, в нем наряду с республиками в составе России и автономными образованиями статус субъектов федерации получили края, области, Москва и Санкт-Петербург. Приобретя элементы государственности, повысив свой статус, они вступили в соответствующие федеративные отношения с Центром. Кроме того, Россия была объявлена не договорной, а конституционной федерацией, в которой распределение властных полномочий целого и его составных частей зафиксировано в Конституции и не предусмотрено право выхода из нее того или иного образования. Не случайно в договоре записано, что республики, не подписавшие его, из федерации не выбывают, а «регулируют свои взаимоотношения с федеральными властями на основе конституции». Это призвано стать гарантией того, что децентрализация в разумных пределах и наделение субъектов федерации соответствующими властными полномочиями не приведут к политико-экономическому обособлению или сепаратизму отдельных республик и регионов. Конституция закрепляет одну суверенную власть – власть Российской Федерации и федеральных законов на всей территории России (ст. 78, п. 40) .
Можно, конечно, критиковать сложившуюся в России специфическую федеративную систему за приспособление федералистской идеи к потребностям авторитарно-бюрократического режима и «полурыночного» общества, но все же главное то, что в России сохраняется «доступный для нашего общества минимум согласия, чтобы не пришлось все здание возводить заново» [20]. Отрицательные черты такой федеративной системы (т. е. смешанный этнотерри-ториальный характер, чреватый этноконфликтами и «этновыдавливанием»; асимметричность масштабов федеральных единиц и, соответственно, неравный вес голосов проживающего в них населения; неравенство статусов субъектов федерации (различия между республиками и «простыми губерниями», наличие субъектов федерации, входящих одновременно в состав других субъектов); неоправданно высокая роль субъективного фактора, когда личные качества главы региона и его персональные связи в Центре во многом определяют отношение федеральных властей к региону и тем самым социальное и экономическое положение проживающих в нем граждан; разнобой в законодательстве, который хотя и уменьшился в результате усилий президента В. Путина, направленных на укрепление «вертикали власти», все еще остается фактором, формирующим реальную политическую ситуацию в стране и т. д.) – преодолимы.
Сложность в исследовании темы терроризма прибавляет и тот факт, что до сегодняшнего дня не выработано адекватное и всеобъемлющее определение сущности современного политического экстремизма и его крайнего проявления – политического терроризма. Только в уголовном праве разных стран мира имеется более 100 определений терроризма. В УК РФ 8 статей посвящено этому общественно опасному явлению. На встрече руководителей спецслужб в январе 2006 г. (в связи с предстоящим саммитом «большой восьмерки» в Санкт-Петербурге летом 2006 г.) обсуждался вопрос о внесении в повестку дня встречи глав государств пункта о необходимости разработки Кодекса по борьбе с терроризмом. По мнению участников встречи, это помогло бы снять разночтения термина «политический терроризм» и на основе общих принципов создать правовую базу для борьбы с этим опасным международным явлением.
Если же говорить о нюансах, обуславливающих зачастую разночтения и понимание террора и терроризма как явлений, то хотелось бы напомнить следующее: термины «террор» и «терроризм» стали широко употребляться со времен Французской буржуазной революции 1789–1794 гг. В русском языке «террор» определяется, как устрашение противника путем физического насилия, вплоть до уничтожения. В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова предлагается общее определение терроризма: «политика и практика террора». Причем политические характеристики этих дефиниций не всегда совпадают с юридической квалификацией. У юристов категория «террор» насыщена составом преступления, т. е. совокупностью объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние – преступление. И если преступление есть конкретное общественно опасное деяние, то состав преступления – это законодательная конструкция преступления, в которой объективно существующие признаки становятся признаками состава преступления. Только посредством закрепления признаков в статьях Уголовного кодекса РФ законодательно определяется характеристика преступления [21. C. 59–80]. Так что не все преступления могут попадать под определение терроризма. Вот эта разница в понимании правоведами и другими гуманитариями терминов «террор» и «терроризм» усложняет изложение исторического материала.
Надо сказать еще и о том, что из СМИ в науку перекочевали некоторые вульгарные жаргонизмы. В теле- и радиопередачах, в публикациях прессы журналисты могут в пылу полемики позволить себе все явления, связанные с насилием в обществе, определять как «террор», «терроризм», «государственный терроризм» или «антигосударственный терроризм», хотя понятно, что с точки зрения системного анализа содержание каждого из терминов совершенно разное. Понятие «террор» не идентично понятию «терроризм», а «террор государства», соответственно, понятию «государственный терроризм». Нередко и исследователи-обществоведы поступают как представители СМИ. Они забывают, что в науке это недопустимо. Упрощенчество ведет к путанице и деформациям в науке (не говоря уж о сознании неискушенной аудитории), эмоциям, политическим предпочтениям, но отнюдь не к правде.
Вот одна из многочисленных иллюстраций смешения понятий «террор», «терроризм», «государственный терроризм». «Террор посягает на власть: он стремится разрушить институт верховной власти, сменить государственных лидеров, изменить внутреннюю либо внешнюю политику; изменить форму правления либо форму государственного устройства. Теперь терроризм действует как международная политическая сила, грозящая уничтожить современную цивилизацию. Никто ни в России, ни в целом на планете не знает, что с этим делать. Между тем дореволюционная Россия накопила значительный опыт противодействия революционно-террористическому движению. Сегодня на этот опыт пришло время взглянуть по-новому – без прежней предвзятости и глазами специалиста-криминолога. Россия пережила в XX в. несколько революций. И каждая революция была неотделима от террора, предшествующего ей и следующего за ней. О российских революциях написано в советскую эпоху много. Но есть ряд моментов, которые не дают оснований полностью доверять тем, советским, исследованиям. Во-первых, вчерашние террористы, захватив власть в России после октября 1917 г., полностью идеологизировали историю... В 1917 г. в России произошла Октябрьская революция. Власть захватили члены международной революционно-террористической организации – партии большевиков. Свои экстремистские идеи они начали проводить уже в форме внутригосударственного террора, что слишком хорошо известно», – заявляют Н. Д. Литвинов (д-р юридических наук, автор пяти монографий по проблемам терроризма) и А. Н. Литвинова [22]. Напрашивается вопрос: не доверять всем историкам, или всей науке советского периода (раз она была «идеологизирована»), а может только части? Кстати замечание историка: авторы забывают, что РСДРП–КПСС не раз общепартийными решениями осуждала террор и терроризм и в дооктябрьский период, и после установления Советской власти [23. C. 66, 74, 118, 317; 24; 25]. Другое возражение с позиций правоведения: авторы очерка забывают, что, легализовав новую государственную власть (а это аксиома), партийно-государственное руководство не смогло последовательно проводить курс на легитимацию Советской власти (т. е. добиться признания своей власти, а также одобрения своей политики со стороны всех подвластных) [18. C. 50–51]. Однако это уже вопрос «почему?», т. е. причин этого. Если сказать кратко о причинах, то правотворчество и институциали-зация права были и развивались в Советской России (СССР) с октября 1917 г., а вот правоприменение – это уже история некомпетентности судей (да и не только их) и массовое беззаконие [26. C. 89]. Но под государственное насилие была подведена нормативно-правовая основа: ранее обоснованная идея пролетарской диктатуры, как «организованное насилие трудящегося большинства», закреплялась в праве, в законах, которые обосновывали юридически (в необходимых случаях) насилие Советского государства.
Система международного права тоже была несовершенна. Лишь после Второй мировой войны, разгрома фашизма, в международном публичном праве появились тенденции к правовому осуждению таких явлений, как геноцид и агрессия. До принятия в 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о предупреждении преступлений геноцида («геноцид» – действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу), и наказании за них в международном публичном праве не было такой нормы, соответственно, и ответственности за геноцид [27. Т. 1. C. 251].
Участником принятия Конвенции был и СССР. Таким образом, до этого момента (с правовой позиции) Советскому государству, его политическому режиму (особенно 1920–1940-х гг.) трудно вменить в качестве обвинения «международное преступление». Террор (насилие) в практике Советского государства (как и всех других в мире) в той или иной форме, как метод, был. Говорить же о нем, что это специальная функция государства, выражающаяся в «особой внутренней политике» – «государственном терроризме», к тому же закрепленная в общегосударственных документах – неверно. Массовые жертвы государственного террора были. Однако во всех, даже инспирированных судебных политических процессах того периода присутствовало правовое основание. Практически партия «подмяла» государство, которое превратилось, фигурально выражаясь, в партию-государство. Можно сказать, при наличии права – законов, существовало почти полное бесправие, а режим умело прятал «концы в воду» – в нормы права тех лет. Так что, несмотря на уже имеющиеся факты по депортации репрессированных народов, по жертвам сфабрикованных политических процессов, раскулачиванию и другим нарушениям законности, ученые еще должны восстановить картину преступлений политического режима. С точки зрения моральной победы гуманизма и демократии, приговором суда истории, можно считать признание существования «политического геноцида» в годы сталинского режима: и против своего государства, и против своего народа. Начало этой победы положили 1950-е гг. (период разоблачения культа личности Сталина), а завершила полная реабилитация всех репрессированных сталинским режимом – принятие Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» 18 октября 1991 г. [28].
И еще одна ремарка: авторы вышеназванной работы и подобных ей к терроризму приписывают революции, национально-освободительную борьбу, войны. Они не могут отграничить друг от друга явления, схожие по проявлению насилия, но разнородные – по целям и существу. Научный и определенный критерий такого разграничения дал А. И. Гушер – член научного совета при Совете Безопасности РФ. Резюмируя точки зрения наиболее авторитетных аналитиков, он выделил следующие черты терроризма, разграничивающие его, хотя и условно, с войной, массовой освободительной борьбой, бандитизмом, тем более что международное право, ряд резолюций ООН и Деклараций ее Генас-самблей (О предоставлении независимости колониальным странам и народам (1960) и пр.), несмотря на некоторую противоречивость, признают право народов с оружием в руках отстаивать свою свободу и независимость [1. C. 233]:
-
1) терроризм – это система насильственных действий, не связанных с вооруженной конфронтацией с правительственными силами, для достижения определенных целей (политических, этнических, религиозных, территориальных, раздел сфер влияния и др.);
-
2) она отражает интересы достаточно узкой группировки, а не всего общества, через создание определенного социально-психологического климата путем устрашения населения, дестабилизации обстановки, нарушения общественной безопасности [29].
Мало признать, что террор и терроризм – явления социально опасные. Они еще и исторические, социально-экономические, политические. Для исследователя важно помнить, что появление в мировой истории государства и права породило властно-принудительные методы в социуме, т. е. организованное насилие. Так человечество получило два вида террора и терроризма – государственный и антигосударственный.
Историки в силу разных обстоятельств (политической коньюнктуры, принадлежности к государственным институтам и пр.) редко подвергали и подвергают действующую власть (особенно в условиях «направляемой демократии» или отсутствия гарантий для реализации демократических свобод) оперативной критике сразу при появлении фактов государственного насилия неправового характера. Хотя голос их экспертной критики стал звучать чаще и увереннее, что связано с развитием и взаимообо-гащением всех гуманитарных наук, гласностью и демократией. В последнее десятилетие российские обществоведы ответили на многие вопросы, позволяющие понять сущность и функции государства и права, а также цели и задачи, типы и формы государства. Они определили и сакральный момент жизнедеятельности государства и власти – политический режим, вскрыли его содержание. Именно в нем надо искать корни политического террора и терроризма, внешнего и внутреннего, государственного и антигосударственного.
Исходя из политического режима, судят о подлинной картине принципов организации общества. Он, как «совокупность способов, средств и методов практического осуществления правящими кругами, главным образом, высшими должностными лицами, государственной, властной воли», фиксирует политическую сторону государственного управления – «реальную принадлежность власти определенным субъектам политических действий, способы владения и удержания ее, и соответственно, механизмы воздействия на людей. Именно в политическом режиме скрыты многие секреты властеотношений, которые к тому же специально камуфлируются; маскируются, прикрывают- ся благообразным антуражем» [18. C. 76]. Он обеспечивает стабильность и определенную упорядоченность власти, управляемость субъектов политики, приемлемую для власти динамику и направленность политических отношений, достижение целей государственной власти, реализацию интересов властвующей элиты. Сам же режим определяется: уровнем развития и интенсивностью социально-политических процессов; структурированностью правящей элиты; состоянием отношений с бюрократией; развитостью социально-политических традиций; господствующим в обществе политическим сознанием, поведением и типом легитимности. Надо помнить, что в зависимости от особенностей набора методов и средств государственного властвования различают два полярных режима - демократический и антидемократический (ко второму относятся тоталитарный, фашистский, авторитарный, деспотический, военный, тиранический и другие разновидности). Однако при любом режиме власть и государство всегда зиждутся на механизме принуждения. Только государство располагает правом издания законов, а значит, все, что делается от имени государства (в пределах законов) - на благо общества, и если со стороны общества нарушается закон, то государство может карать индивидуумов, общественные, профессиональные, политические и прочие организации. Но тогда встает вопрос: а так ли совершенно законодательство?
В процессе исторического развития эмпирический опыт породил многообразные формы государственного принуждения (например, по различным основаниям деления это: экономические, военные, идеологические (в том числе, религиозные), корпоративные, публичные и частные, власть организации над добровольно вступившими в нее членами и т. д.). В истории (и не только отечественной) государственное насилие вызывало сопротивление отдельного подвластного субъекта или же субъектов вла-стеотношений. Вот почему из поля зрения современных исследователей не должны выпадать проблемы политических конфликтов внутри страны. В советские времена они часто объяснялись только классовыми противоречиями.
В контексте проблемы террора со стороны государства надо отметить следующее: в России исторически сложилось так, что государство неустойчиво и имеет тенденцию к распаду. Нельзя сбрасывать со счетов, что даже сложившиеся представления о механизмах развития российской государственности основывались на двух культурных источниках. Один из них -древние, часто модернизированные предания старины. Это чисто традиционалистская попытка интерпретировать современность в свете архаичной (древней, устаревшей) мифологии.
Второй источник - это опыт западных стран, который используется для интерпретации исторического опыта России. Однако ни опыт традиционализма, ни опыт либерализма не помогают понять, каким образом преодолеть раскол во взглядах на государство, а значит, и признавать всегда правильность его решений всеми подданными. За время существования российской государственности (от протогосударствен-ной Руси, Киевской Руси, Золотоордынской Руси, Московской Руси до Петровской России, императорской России, Советской России (СССР) и постсоветской РФ) было семь ее кризисов. Эти кризисы демонстрируют высокую степень политической конфликтности в российском обществе. Более того, политическая конфликтность в России (как столкновение противоположных сил, интересов, мнений взглядов и т. п.) имела и имеет свои особенности. Они связаны с русской политической историей и национальной культурой. Ряд содержательных черт конфликтности, восприятия и поведения в конфликтной ситуации, присущи не только русским людям, но и представителям тех народов, которые тесно связали с Россией свою историческую судьбу. Если конкретизировать эти черты, то: во-первых, это долготерпение, стремление как можно дольше не вступать в открытое столкновение. Россиянин может бесконечно долго терпеть нужду, лишения, притеснения, даже прямое насилие, осознавая их пагубное воздействие, не считая необходимым до поры до времени вступить с ними в открытое противоборство. Во-вторых, это крайние формы поведения в конфликте - во что бы то ни стало одержать верх, добиться победы над противником. Вялотекущий конфликт - большая редкость. Гораздо чаще ситуация выглядит как нежелание вступать в конфликт, долготерпение одной из сторон, переходящее затем в бунт, взрыв, ярко выраженное сопротивление давлению противоположной стороны. В-третьих, ментальное неприятие конфликта, подсознательное отношение к нему как к тяжелейшему бремени. Атмосфера конфликта непривычна и нежелательна для русской души. В Европе и других странах, где история приучила людей к состоянию перманентного конфликта, сформировались устойчивые особенности индивидуализма в качестве реакции на необходимость сохранить себя в поле конфликтного напряжения. В отличие от них русский характер еще живет грезами братского единства, доверчивости, всеобщей любви, которые и по сей день питают идеи соборности, особой роли и предназначения России к объединению всех народов во имя всеобщего мира и согласия на Земле.
Ряд особенностей российской конфликтно -сти тесно связан с элементами византийского влияния, откуда берет свое начало российское самодержавие как устойчивая форма ярко выраженной централизованной власти. Самодержавное строение государства оказало значительное влияние на состояние конфликтности общества, так как государственный интерес стал решающим образом присутствовать на любом провинциальном уровне существования конфликта. Еще одна особенность проявляется в том, что все более или менее крупные конфликты в России с давних пор чрезмерно идеологизированы. В борьбу, казалось бы, совершенно частных, хозяйственных, социальных, а то и бытовых интересов почти всегда вплетается господствующая идеологическая парадигма. В свое время господствующая православная идеология присутствовала не только в спорах по вопросам религии. Затем ее функции постепенно перешли к коммунистической идеологии, противоположной по содержанию, но столь же монопольно доминирующей по существу. «Сильная идеологическая составляющая российской конфликтности также убеждает в отсутствии у россиян европейского опыта длительного пребывания в состоянии конфликта на основе свободного противостояния сторон» [20]. Со времени возникновения государственности власть в России осуществляет свою деятельность за счет народа, который соответствующим образом реагировал и реагирует на власть. В стране перманентно развивалась или развивается ситуация неадекватности и нетож-дественности власти и народа. Российская власть стремилась и стремится уйти из-под контроля общества и переложить ответственность собственной несостоятельности на кого угодно. Параллельно такая же ситуация периодически модифицируется в системах законодательной и исполнительной власти. В этой связи нельзя обойти проблему изучения политического согласия в российском обществе, т. е. такого состояния политической организации общества, которое характеризуется балансом интересов, рациональной легитимностью политической элиты, способной давать ответы на вызовы времени. Это тем более актуально в связи с политической индифферентностью основной части нашего населения. Работ по этой теме в настоящее время практически нет. О согласии же можно говорить только тогда, когда население добровольно подчиняется власти. О достижении его также же свидетельствует согласие различных ветвей государственной власти между собой. Если понимать согласие как отсутствие серьезных социально-политических конфликтов, то можно констатировать, что в современной России политическое согласие достигнуто. Но как тогда соотнести с ним контртеррористическую операцию в Чечне и борьбу с организованной преступностью? Если же проанализировать взаимоотношения между ветвями и структурами власти, то сказать утвердительно, что здесь конфликтность полностью преодолена, было бы иллюзией.
В условиях тоталитаризма (особенно в самодержавной и Советской России, в СССР) власть добивалась согласия в обществе иногда сложным – «простым» путем. Одним из методов был скрытый террор государства. В случае нелояльности человека политическому режиму, он изолировался от общества и, таким образом, прекращал свое гражданское существование либо без суда, либо через особое судебное производство. Примеров этому можно привести великое множество (от А. Н. Радищева и П. Чаадаева до А. Д. Сахарова). Даже современная политическая действительность в России больше ассоциируется правоведами «с авторитарно-бюрократическим режимом, хотя и характеризующимся определенными внешними, формальными атрибутами демократии» [18. C. 84–85].
Преодолеть данную российскую «традицию» можно лишь на основе последовательного строительства правового государства. Этот процесс, в свою очередь, предполагает проведение целенаправленной и, желательно, прагматической правовой политики (когда государство создает право, но не считает себя связанным им, подчиняется ему, т. е. самоограничивается во имя общего блага); устранение разрыва между теорией и практикой прав человека; наведение порядка во власти; укрепление законности и правопорядка в стране; неуклонное соблюдение всеми органами и организациями, учреждениями, должностными лицами и гражданами правовых норм (надо заметить, что сегодня это наиболее слабое место в государственной деятельности); преодоление правового нигилизма и правового идеализма, а в целом – острого дефицита правовой культуры; и, может быть, даже модификацию Конституции или принятие новой [18. C. 504–510].
Интересной, но практически не определенной, размытой, а значит, малоисследованной (в силу слабой документированности) остается проблема отечественного «государственного терроризма». Содержание данной формулировки, как уже отмечалось выше, связано с вполне определенной государственной функцией – внутренней или внешней, соответственно реализуемой в конкретной политике государства – внутри страны или на международной арене.
Научная литература и пропаганда советского периода полностью отождествляла «государственный терроризм» с геополитической экспансией империализма. Только с 1945 по 1975 г. США применяли силу в международных отношениях более 230 раз. Сотрудник Центра исследований национальной безопасности США Дж. Маркс отмечал, что «наше правительство регулярно использовало терроризм в качестве принципа внешней политики» [1. C. 208]. В советских СМИ иногда тоже проходила информация, из которой можно было узнать о географии, иногда о масштабах «интернациональной помощи» народам, «борющимся за национальную независимость, демократию и социализм», но судить об этой помощи, не исследовав ее, – рано.
Примеров, сходных по использованию методов силового характера (политический шантаж; психологическая война; установка контактов с диссидентами и организованной преступностью; подготовка и засылка наемников с целью совершения саботажа и диверсий; снабжение оружием и советниками внутренней государственной оппозиции для изменения политического режима; убийств политических фигур и т. д.), в противоборстве отдельных государств и даже систем (например, Антанты и Четвертного союза, Мировой системы социализма и Европейского сообщества, и т. п.) на мировом геополитическом пространстве и в истории монархической, буржуазной и советской России можно найти предостаточно. Но надо сказать откровенно, что эти акции всегда маскировались за завесой защиты национальных интересов страны, а значит, глубокой секретности. Политические и идеологические противники, в случае провала секретности операций такого характера, моментально поднимали пропагандистскую шумиху, обвиняя противоположную сторону в нарушении международного права. Тогда-то и появлялись факты – доказательства «государственного терроризма». Конечно же, их трактовка идет через призму нарушений норм сложившегося к этому времени международного права (например, участие советских добровольцев в гражданской войне 1936 г. в Испании; или Секретный протокол Договора о ненападении между Германией и СССР от 1939 г.; война с Финляндией 1939–1940 гг. и т. д.).
Международное публичное (дипломатическое) право устанавливает общий критерий для действий государств (в политической, экономической, культурной, военной и других областях). В формировании его норм огромную роль играет дипломатия. Одновременно само право является одним из ее инструментов. Его регуляторная функция заключается в фиксировании взаимных прав и обязанностей государств по конкретным вопросам международных отношений. Охранительная функция международного права служит защите интересов каждого государства и всего международного сообщества в целом, приданию международным отношениям устойчивого характера. Международное право оказывает в свою очередь активное воздействие на международные отношения, причем между государствами не только осуществляется со- трудничество, но и идет борьба по вопросам принятия тех или иных международноправовых норм и принципов, их наполнения конкретным содержанием. Составляя единую правовую систему, оно в одинаковой мере служит всем государствам – большим и малым, c разным общественно-политическим строем [27. Т. 2. C. 200–201]. Поэтому факты нарушения международного права роняют престиж, авторитет государства-нарушителя и влекут определенные санкции к нему со стороны мирового сообщества.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что основой преодоления конфликтности, в том числе и таких ее крайних форм проявления, как террор и терроризм, в масштабе отдельного ли государства – России, или всего международного сообщества, является развивающееся и связанное демократическое «множество».
Материал поступил в редколлегию 04.11.2006