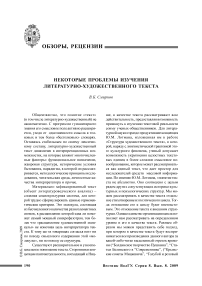Некоторые проблемы изучения литературно-художественного текста
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14975174
IDR: 14975174
Текст статьи Некоторые проблемы изучения литературно-художественного текста
В.Б. Смирнов
Общеизвестно, что понятие «текст» (в том числе литературно-художественный) не аксиоматично. С прогрессом гуманитарного знания его смысловое поле активно расширяется, уходя от однозначности смысла в толковых и тем более «бестолковых» словарях. Оставаясь стабильным по своему лексическому составу, литературно-художественный текст динамичен в интерпретационных возможностях, на которые влияют многочисленные факторы: функциональное назначение, жанровая структура, исторические условия бытования, парадигма, в которой он рассматривается, методологические принципы исследования, читательская среда, личностные качества интерпретатора и прочее.
Материально зафиксированный текст (объект литературоведческого анализа) – сложная социокультурная система, для которой трудно сформулировать единые герменевтические критерии. Это молекула, состоящая из бесчисленного количества разноэлементных атомов, в расщеплении которой едва ли поможет самый мощный синхрофазотрон, тем более что «расщепление художественной молекулы» не конечная цель интерпретатора текста. К тому же «в товарищах согласья нет» ни по поводу смыслового содержания этой «молекулы», ни по поводу ее структуры.
Существуют расширительное и узкоспециальное понимание текста. Сторонники концепции пантекстуальности, восходящей к Ниц- ше, в качестве текста рассматривают всю действительность, предоставляя возможность примкнуть к изучению текстовой реальности сонму ученых-общественников. Для литературной науки гораздо продуктивнее концепция Ю.М. Лотмана, изложенная им в работе «Структура художественного текста», в которой, наряду с лингвистической трактовкой этого культурного феномена, ученый допускает возможность укрупнения целостных текстовых единиц в более сложное смысловое новообразование, которое может рассматриваться как единый текст, что дает простор для исследователей средств массовой информации. По мнению Ю.М. Лотмана, «понятие текста не абсолютно. Оно соотнесено с целым рядом других сопутствующих историко-культурных и психологических структур. Мы можем рассматривать в качестве текста отдельное стихотворение из поэтического цикла. Тогда отношение его к циклу будет внетекстовым. Это отношение текста к внешним структурам. Однако единство организации цикла позволяет нам рассматривать на определенном уровне и его в качестве текста. Равным образом мы можем представить себе подход, при котором в качестве текста будут восприниматься все произведения данного автора за какой-либо четко выделенный отрезок времени (“Болдинское творчество Пушкина”, “Статьи Белинского в “Современнике”, (“Крымские сонеты Мицкевича”, “Голубой и розовый
Пикассо”), произведения определенного, улавливаемого нами единства (стилевого, тематического и т.п.). Возможны, наконец, тексты типа “Творчество Шекспира”, “Художественное наследие Древней Греции”, “Английская литература” и, как предельное обобщение, “Искусство человечества”. Против утверждения о том, что любое из названных понятий может быть рассмотрено как текст, по сути, никакого строгого возражения выдвинуть невозможно» [3, с. 270]. Но, допуская возможность рассмотрения как единого текста какой-либо национальной литературы в целом (английской, в частности), ученый неизбежно должен был прийти к мысли об аналогичной квалификации и более локальных смысловых упорядоченностей, таких как периодическое издание, в том числе журнал с выдержанным направлением, дискурсная многосоставность которого не исключает (напротив, предусматривает) стилевую общность текстов на основе проблемно-тематической общности публикуемых материалов и творческой близости – при всей их индивидуальности – авторов, сотрудничающих в издании, на той самой основе, которая именуется семантическим единством. В то же время исследователь понимает смысловую вариативность одного и того же текста с точки зрения авторской интенции, читательской рецепции и его контекстуального функционирования, с одной стороны, в имманентном поле художественной литературы, с другой – в социокультурном поле журналистики. «Можно было бы привести много примеров, – справедливо замечает Ю.М. Лотман, – когда созданные как отдельные произведения тексты в дальнейшем функционировали как части более обширного текста того же автора, других авторов или анонимного. В фольклоре это происходит постоянно. Главы “Героя нашего времени” первоначально не только создавались, но и печатались как отдельные повести (замечу, обретая дополнительные смыслы в контексте “Отечественных записок” конца 30-х – начала 40-х годов XIX века. – В. С.), однако потом превратились (в первом отдельном издании) даже не в цикл повестей, а в роман (утратив семантическую дополнительность журнального контекста. – В. С.). Главы “Евгения Онегина” или “Василия Теркина” для современников, читавших их в отдельных публикациях (они выходили порой с большими хронологическими перерывами), обладали, конечно, большей самостоятельностью, чем для последующих читателей, держащих в руках единую книгу с общим заглавием и сквозной нумерацией глав и страниц. В этом смысле публикация романа в журналах или даже в газетах определенными текстовыми порциями с пометкой “продолжение следует”, конечно, порождает особое чувство текста. Вряд ли можно спорить, что в этом случае возможно двойное соотнесение текста: глава романа – часть романа и главы романа – часть структурного и идейного единства книжки журнала. Но если оба эти представления возможны, то все же нельзя не признать, что под текстом здесь будут разуметься различные вещи…
Таким образом, мы подходим к выводу: необходимо учитывать возможную разницу между тем, что автор понимает под текстом, что воспринимает его аудитория в качестве первичной художественной целостности и, наконец, точкой зрения исследователя, воспринимающего текст, как некую полезную абстракцию художественного единства» [3, с. 271]. Последнюю фразу ученого едва ли можно признать удачной, тем не менее намеченные им аспекты изучения «полезной абстракции» нашли поддержку и литературоведов, и «сми-кологов» (исследователей средств массовой информации и коммуникации – понятие, вводимое В.В. Прозоровым) [7, с. 40–41]. Последним импонирует рассмотрение печатного издания как «единого текста, хотя и состоящего из различных относительно самостоятельных комплексов», считая, что такой подход позволяет избежать интерпретирования отдельных формообразующих элементов как метафизически застывших, разобщенных, существующих изолированно. Оперирование понятием единого текста может способствовать преодолению формальной дискретности, оно дает возможность сцементировать все составные части, свести их, несмотря на очевидный полиморфизм, в единое семантическое пространство» [4, с. 11].
Не останавливаясь подробно на существующих концепциях текста, замечу, что по мере развития гуманитарных наук возможности интерпретации художественных произведений и их совокупностей расширяются, возникают новые научные дисциплины, с одной стороны, интегрирующие принципы целостного анализа текста, с другой – дифференцирующие методики анализа, в зависимости от локального аспекта исследования. Эффективность комплексного междисциплинарного подхода к анализу литературно-художественного текста внутри сложной текстовой структуры (журнала) хорошо демонстрирует монография А.В. Млечко «От текста к тексту. Символы и мифы “Современных записок” (1920–1940)» (Волгоград, 2008). Опираясь на методологические принципы историко-литературного изучения журналистики, достаточно апробированные на материале отечественных журналов девятнадцатого и двадцатого столетий, и существенно обогатив их за счет синтезирования исследовательских подходов, свойственных смежным наукам и научным дисциплинам (философия, социология, культурология, социальная психология, компаративистика, мифопоэтика, дискурсный анализ медиафеноменов), автор разработал интерпретационную методику сложных культурных систем, которая в равной мере может быть использована как литературоведением, так и журна-ловедением.
Объектом изучения А.В. Млечко стал крупнейший русский журнал зарубежья «Современные записки», в течение почти четверти века служивший пристанищем литераторов-эмигрантов так называемой «первой волны». Работа А.В. Млечко – в сущности, первый опыт формосодержательного анализа этого издания, поскольку у отечественных исследователей руки до него не доходили – по вполне понятным причинам – многие десятилетия, а диссертация чикагского ученого Н. Хайеса «Интеллигенция в изгнании: “Современные записки” и история русской эмигрантской мысли 1920–1940» (1976) сосредоточена, главным образом, на том аспекте, который указан в подзаголовке. Впрочем, и отечественные работы об этом журнале посвящены частным аспектам общественно-литературной биографии. В монографии же А.В. Млечко «Современные записки» представлены в широком (если не сказать, в избыточном) контексте русской эмигрантской культуры и общественной жизни постреволюционной России в целом, проясняющем многие нюансы миро- восприятия, мирочувствования и мироотраже-ния вынужденных изгнанников-писателей. Собственно, это и было целью автора, которая сформулирована с экстатическим захлебом неофита, дорвавшегося до импортного терминологического продукта: «основной целью данной работы является выявление особенностей и мифосимволического характера нарративных структур, репрезентированных в текстах художественного дискурса журнала “Современные записки”, их корелляции со структурами иных дискурсов, механизмов смыслообразования в специфических условиях герменевтического анализа медиатекстов и их связи с ментальными установками отдельной культурной целостности» [5, с. 17]. Мудрено? Так и просится на язык грибоедовское хоть у китайцев нам б занять премудрого незнанья иноземцев.
В «переводе» на русский речь идет примерно о следующем. А.В. Млечко справедливо исходит из того, что российский «толстый» литературно-художественный журнал, как социокультурное явление специфической национальной истории, политической доминантой которой несколько веков был авторитарный (самодержавный) строй (это наследие с трудом искореняется и по сей день), позиционировал себя как некий гражданский институт многофункционального назначения, находящийся с властью в сервильных отношениях (издания-официозы), лояльных или оппозиционных (в меру цензурной дозволенности). Существовали и многие другие идеологические оттенки взаимоотношений между властными и медиаструктурами в зависимости от философских, политических, социальных нюансов журнального направления. Противоборство и полемизм – явления, сопутствующие литературному процессу, особенно в так называемые «переходные эпохи», которых в России не счесть. Поэтому в дискурсном блендинге (смешении), который является характерной чертой средств массовой информации [9, c. 385] публицистическая составляющая, всегда присутствующая эксплицитно или имплицитно, зачастую выступала на первый план, определяя идеологический вектор издания, даже литературно-художественного, что упрощало выявление смысла журнального гипертекста.
«Современные записки», по мнению А.В. Млечко, будучи типологически близкими к некрасовским журналам «Современник» и «Отечественные записки», в которых художественный дискурс является «центральным смыслорождающим “ядром” всего издания» [5, с. 17], имеют свои особенности в том, что они «не отличаются единством и прозрачностью политической позиции и четко обозначенной идеологической направленностью» [там же, с. 17–18].
Это обстоятельство заставило автора искать дополнительные «научные мощности», которые позволили бы наиболее адекватным образом интерпретировать неявный политический и эстетический смысл художественного дискурса, подпитываемого журнальным контекстом. Для этого исследователю пришлось приспособить к анализу сложного литературно-журнального объекта философскую и культурологическую концепцию «символических форм» Кассирера, доказывающую свою герменевтическую продуктивность в изучении ментальных структур. Национальная ментальность – это динамичный социопсихологический стереотип, «корневая» основа которого не поддается полному разрушению даже в «переходные эпохи», сохраняясь в мифологическом сознании личности в виде текстовых символов, или мифологем. Доказательству необходимости выделения такой смысловой единицы текста, позволяющей проникнуть в смысловое поле художественного дискурса «Современных записок» и – шире – при всей энтропийности журнального контекста найти его формосодержательное единство, посвящена, в сущности, вся первая глава книги «“Русский текст” “Современных записок” и трансдискурсивность (на мой взгляд, точнее все-таки звучит «трансдискурсность». – В. С. ) символа».
А.В. Млечко считает, что явление энтропии – специфическая особенность функционирования эмигрантского издания в кризисной общественно-исторической атмосфере России, чреватой распадом национальной культурной идентичности, предчувствие которого и противостояние которому неизбежно должны были вести руководителей «Современных записок» к идеологической толерантности, к стремлению объединить русскую эмигрантскую среду на основе широкой общедемократической культурной программы, не утрачивая антибольшевистской направленности, избегая сотрудничества с представителями как крайне правых эмигрантских течений, так и выражавших сочувствие советской власти, в то же время не потрафляя узко партийным интересам локальных идейных группировок, и за рубежом сохранивших спектральное многоцветье русской демократической идеологии, отмеченное в свое время еще Энгельсом.
На самом деле энтропийность журнального гипертекста – это диалектическая закономерность существования средств массовой информации, которым свойственно противоборство стандартизации и персонификации, единства и многообразия, центростре-мительности журнального текста в широком плане и центробежности его дискурсов. Этого противоборства не могли избежать и журналы «с ясной и недвусмысленной общественно-политической ориентацией», по формулировке А.В. Млечко [5, с. 54], то есть, к примеру, некрасовские «Отечественные записки». И упомянутый в контексте этого высказывания В.Б. Смирнов отнюдь не рисовал благостную и безмятежную картину существования разнодискурсных материалов внутри этого издания, обращая внимание на политические взаимоотношения между народнической публицистикой и беллетристикой, на то, что в период, когда крестьянская община начала разрушаться под влиянием развивающегося капитализма, «Отечественные записки» представляли собою дискуссионный клуб, в котором слово на равных правах предоставлялось и защитникам общинного землевладения, и его противникам, и апологетам буржуазных порядков, и критикам их [8, с. 103]. Не изменяя принципиальной идейно-художественной позиции и программе, «Отечественные записки» публиковали на своих страницах произведения, которые хотя и не удовлетворяли полностью эстетическим требованиям редакции, тем не менее, отвечали по характеру поднимаемых проблем «социальному заказу» журнала, не противоречили его социально-политическим запросам [там же, с. 245] и обогащали смысловой спектр издания.
Понимая сущность энтропийности и учитывая литературно-центристскую ориентацию «Современных записок», для уяснения смыслового единства которых не всегда продуктивно проецирование смыслов философско-публицистического дискурса, А.В. Млечко, тем не менее, не отрицает относительной возможности постижения семантического поля «русского текста» этого издания с помощью социологического кода, открывающего доступ к пониманию социальных «представлений, репрезентирующих характерные ментальные особенности эмигрантов, их мировоззренческие установки» [5, с. 75]. Однако для уяснения смысла художественного дискурса этого явно недостаточно, так как утрачивается его эстетическая специфика. Здесь-то на помощь исследователю и приходит символ, как «основной и универсальный структурообразующий элемент процесса познания» [2, с. 124], выступающий в роли «синтезатора» и одновременно «генератора» смыслов на пространстве русского текста «Современных записок», сводящего в целостность, казалось бы, автономные элементы и позволяющего понять еще одну текстовую структуру – эмигрантский миф , который и составляет содержание и архитектонику русского текста эмиграции. Три последующие главы монографии: «Русский космос: в поисках утраченного рая», «Русский хаос: от бытия к ничто», «Россия в изгнании: миф о вечном возвращении» – демонстрируют читателю реализацию разработанной исследователем методики мифоэпической герменевтики русского текста «Современных записок». Такая композиционная структура книги отражает тематическое триединство художественных текстов, доминирующих на страницах журнала, пребывающих в литературной реальности как в обособленном, так и в пересекающемся видах (темы дореволюционной России – революционной – эмигрантской). Такое деление, по мнению автора, «не столько дублирует хронотопические характеристики эмигрантской культуры, но и полностью синхронизируется с парадигмой сменяющих друг друга мифологем» [5, с. 120]. Мифологема Космоса символизирует упорядоченный мир дореволюционной России, Хаоса – разрушительную стихию русской революции, мифологема Возвращения связана с
Россией эмигрантской, как гарантом воскрешения утраченного Космоса .
Я не буду останавливаться на впечатляющей и поистине неисчерпаемой картине мифологического толкования смыслов художественного дискурса «Современных записок», которую невозможно уложить в рамки краткого обзора некоторых новых тенденций интерпретации текста. Отмечу только, что комплексный подход к анализу литературы русского Зарубежья в аспекте избранной А.В. Млечко методологии позволил ему существенно прояснить смысловое содержание таких произведений, появившихся в эмигрантском издании, как роман И. Бунина «Жизнь Арсеньева» (и ряда его рассказов), «Путешествие Глеба» и «Дом в Пасси» Б. Зайцева, роман И. Шмелева «Любовная история», набоковские романы «Приглашение на казнь», «Отчаяние», «Дар», «Подвиг», романная трилогия М. Алданова «Ключ», «Бегство», «Пещера» и его же тетралогия «Мыслитель», дилогия Д. Мережковского «Рождение богов». И не просто прояснить, но показать общность их содержания, придающую контекстуальное единство «Современным запискам», и наметить актуальные аспекты изучения поэтики журнала. К сожалению, автор полностью проигнорировал поэтическую продукцию эмигрантского издания, которая, не противореча выводам исследователя, внесла бы в его аргументацию дополнительные оттенки.
Все шире в последние годы начинают осваиваться современным литературоведением и топографические локусы русского текста, методологическая концепция изучения которых намечена В.Н. Топоровым, считающим возможным говорить на основе семантического единства, например, о петербургском тексте, характеризующемся специфическим ядром, которое «представляет собой некую совокупность вариантов, сводящихся в принципе к единому источнику, хотя он писался (и, возможно, будет писаться) многими авторами, потому что он возник где-то на полпути между объектом и всеми этими авторами, в пространстве, характеризующемся в данном случае наличием некоторых общих принципов отбора и синтезирования материалов, а также задач и целей, связанных с текстом» [10, с. 279]. Иными словами, исследо- ватель кладет в основу петербургского текста архетипические признаки первой российской столицы, расширяя в сущности крамольную для марксизма мысль о геопсихологичес-кой детерминации коллективных эстетических представлений, которую осмелился озвучить в конце 60-х – начале 70-х годов прошедшего века Г.М. Фридлендер в работе о поэтике русского реализма. «…Для литературы каждого народа, – замечал он, – существенное значение имеет тот фонд общенародных представлений и коллективной образности, который вырабатывается и шлифуется всем длительным процессом истории народа, отражая наиболее общие черты его многовековой истории, а также той естественно-географической, природной среды, в которых она протекает» [11, с. 139].
Ну, а уж коли существует «петербургский текст», то и вторая российская столица не могла отказать себе в удовольствии претендовать на московский текст. В Московском городском педагогическом университете вышел уже третий сборник «Москва и “московский текст” в русской литературе ХХ века» (2007). Говорить о какой-то исследовательской стратегии и методологической концептуальности этого издания пока, видимо, преждевременно. Формируя свою концепцию «петербургского» текста, В.Н. Топоров специально оговаривал неравнозначность подходов к изучению темы «Петербург в русской литературе» и «Петербургский текст русской литературы», акцентируя в последнем случае внимание на художественной специфике мировосприятия и мироотражения, свойственных субъекту петербургского текста, которые отражаются во внутренней структуре произведения, порожденной принадлежностью автора к определенному топосу. Этот аспект в московском сборнике практически отсутствует. Его «заглавная» общность опирается главным образом на топографическую привязку к столице или автора анализируемого произведения, или содержания текста. Трудно выделить какую-либо работу, которая мало-мальски приближалась бы к топоровской концепции, хотя сборник содержит материал, небезынтересный в литературно-краеведческом плане. Пока это первые шаги экстенсивного освоения специфической научной проблемати- ки, требующей интенсивного (глубинного) ее постижения.
Более серьезный интерес вызывает второй выпуск сборника «Дидактика художественного текста» (2007), подготовленного кафедрой зарубежной литературы Кубанского государственного университета (под редакцией А.В. Татаринова). По мнению редактора, скрепляющей идеей сборника стала «идея прямого или косвенного воздействия художественного текста на читателя – особого влияния, определяющего пространство нравственной жизни» [1, с. 3], выявление «учительного» (дидактического) потенциала литературного произведения, которым так богата русская и зарубежная классика. Правда, составитель сборника справедливо задумывается над тем, не сужаются ли при таком подходе горизонты литературоведческой мысли, не рискует ли «дидактика художественного текста», претендующая на статус самостоятельной научной дисциплины, «увести нас от непосредственных переживаний совершенной красоты, заменив эстетику на идеологию, чистое созерцание на некий навязчивый призыв к действию?» [там же, с. 4]. Разумеется, существует опасность застрять на одном из аспектов социологического анализа литературного текста. К чести авторского коллектива, он старается уйти от односторонности риторического подхода к содержательной структуре произведения (или творчества отдельного художника), понимая, что его смысловое поле существенно обесцвечивается вне поэтического анализа, вне национального культурного пространства, вне мифологической парадигмы, динамически трансформирующей смыслы художественных текстов, тем более что ученые чаще всего обращаются к литературным явлениям, насыщенным богатыми общечеловеческими ценностями. Ведь дидактический смысл актуализируется общественными потребностями времени.
Второй выпуск «Дидактики художественного текста», композиционной основой которого является хронологический принцип, имеет три раздела: «Классическая литература», «ХХ век» и «Современная литература». Профиль выпускающей кафедры сказывается в преимущественном интересе к явлениям зарубежной культуры, иллюстрирующим движе- ние художественных образов и дидактической мысли от Блейка и Колдриджа до Зюс-кинда, Павича и Бегбедера. Скромнее представлены русские имена (Ф. Достоевский, Л. Андреев, Ф. Сологуб, Заболоцкий, Т. Толстая). Некоторые работы сами составители считают «имеющими стратегическое значение для сборника как коллективного труда». Это «Два прочтения мифа о Пигмалионе: Оскар Уальд и Бернард Шоу» А.Н. Татариновой, «Романы Т. Уайлдера 20-х годов как дидактическая проза» Ю.В. Гончарова и «Освоение страха (к дидактике лабиринта в литературах ХХ века)» С.Н. Чумакова.
Их «стратегичность» и составителям, и мне видится прежде всего в демонстрировании формирующейся методики дидактического анализа текста и научного инструмента подобных исследований, свидетельствующего о том, что неофиты складывающейся интерпретационной концепции отнюдь не игнорируют и жанровую специфику текстов, по-своему презентирующую исследуемый аспект; и формы выражения авторской идеи, в первую очередь интересующей «ди-дактов»; и зависимость дидактических систем от принципов художественного освоения мира, характерных для разных литературных направлений, а также от персональной стилистики автора. Обращают внимание иссле-дователи-«дидакты» и на авторскую интенцию, и на читательскую рецепцию текста, обогащая «сухость» и рационализм извлечения дидактического «корня» герменевтическими приемами, хорошо освоенными интеграционным (комплексным) литературоведением. Главное, что должно лежать в основе размышлений о дидактике литератора, справедливо считает редактор сборника, – это «качественный анализ произведения, стремление понять механизм взаимодействия повествовательных инстанций. Учительную реальность художественного слова создает тот, кто его воспринимает, – создает в безусловном контакте с «первым творцом», с автором, оставившим непростой алгоритм этого контакта» [1, с. 10].
Дело за созданием алгоритма постижения этого контакта на уровне современного гуманитарного знания.
Список литературы Некоторые проблемы изучения литературно-художественного текста
- Дидактика художественного текста. -Вып. 2. -Краснодар: Изд-во Кубан. ун-та, 2007. -182 с.
- Кармадонов, О. А. Социальная символика/О. А. Кармадонов. -М.: Academia, 2004. -352 с.
- Лотман, Ю. М. Структура художественного текста/Ю. М. Лотман//Лотман Ю. М. Об искусстве. -СПб.: Искусство, 1998. -645 с.
- Мисонжников, Б. Я. Феноменология текста (соотношение содержательных и формальных структур печатного издания)/Б. Я. Мисонжников. -СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. -490 с.
- Млечко, А. В. От текста к тексту. Символы и мифы «Современных записок». (1920-1940)/А. В. Млечко. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. -571 с.
- Москва и «московский текст» в русской литературе ХХ века. -Вып. 3. -М., 2007. -122 с.
- Прозоров, В. В. Власть современной журналистики, или СМИ наяву/В. В. Прозоров. -Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2004. -132 с.
- Смирнов, В. Б. «Отечественные записки» и русская литература 70-80-х годов ХIХ века/В. Б. Смирнов. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1998. -263 с.
- Смирнов, В. Б. Поэтика русского литературно-художественного журнала как проблема комплексного изучения/В. Б. Смирнов//Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов. В 2 т. Т. 2. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. -780 с.
- Топоров, В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. Избранное/В. Н. Топоров. -М.: Культура, 1995. -624 с.
- Фридлендер, Г. М. Поэтика русского реализма/Г. М. Фридлендер. -Л.: Наука, 1971. -168 с.-