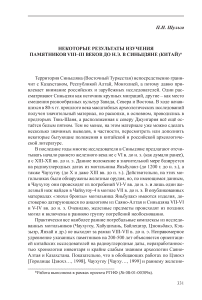Некоторые результаты изучения памятников VIII-III веков до н.э. в Синьцзяне (Китай)
Автор: Шульга П.И.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XVI, 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521646
IDR: 14521646
Текст статьи Некоторые результаты изучения памятников VIII-III веков до н.э. в Синьцзяне (Китай)
Практически все наиболее ранние погребальные комплексы из исследованных могильников (Чаухугоу, Хабуцихань, Байлециэр, Цзюньбакэ, Кэц-зыэр, Янхай и др.) не выходят за рамки VIII-VII в. до н. э. Неправомерное удревнение указанных памятников на 200-500 лет объясняется ориентацией китайских исследователей на радиоуглеродные даты, неразработанностью хронологии инвентаря и крайне слабым знанием археологии Саяно-Алтая и Казахстана. Показательно, что в обобщающих работах по Цзяохэ [Городище Цзяохэ..., 1998], Чаухугоу [Чауху..., 1999] и раннему железно- му веку Синьцзяна [Хань Цзянье, 2007] захоронения датируются только по 14С, особенностям погребального обряда и керамике. При этом традиционно используется принятая в Китае историческая периодизация, согласно которой материалы раннего железного века делятся на периоды Чуньцю (770-476 гг. до н. э.), Чжаньго (475-221 гг. до н. э.) и Хань (II в. до н. э. – II в. н. э.). В поисках аналогий инвентарю также обращаются к материалам из Северного Китая.
Такой подход малоэффективен, поскольку вещевые комплексы VIIIIII вв. до н. э. в Синьцзяне тяготеют к Саяно-Алтаю и Казахстану. Как ни странно, на первый взгляд, но пока там не выявлено ни одного представительного погребального комплекса VIII-V вв. до н. э. подобного извес т ным в Северном Китае и Ганьсу. Учитывая большое количество исследованных по Тянь-Шаню памятников, можно констатировать, что с востока на Тянь-Шань значительных миграций не было. Особые погребальный обряд и керамика однозначно указывают на существование в наиболее хорошо изученных районах городов Хами, Турфана и Хэцзина археологических культур, сформировавшихся в VIII в. до н. э. и су ще ствовав ш их б е з п р инци пиа л ьных изменений примерно до середины V в. до н. э. Наиболее ярко и убедительно эта необычная для степного пояса устойчивость прослеживается на могильниках культур чауху (Чаухугоу-1,2,4,5, Хабуцихань и др.) и субэйси (Ян-хай-1,2,3). Некоторая преемственность прослеживается и в V-III вв. до н. э., но, на наш взгляд, едва ли можно говорить об их существовании вплоть до рубежа эр, как полагают в Синьцзяне. Стабильность культур объясняется отсутствием на данной территории значительных миграций населения и устойчивостью сформировавшихся хозяйственных типов. Предположительно, уже к VII в. до н. э. в предгорьях Тянь-Шаня близкие в куль т урном отношении группы населения начинают разделяться на «земледельцев» и «кочевников». Примерно в середине VI в. до н. э. оседлое население Синьцзяна переживает явный кризис, совпадающий во времени с произошедшей тогда резкой сменой культур степного пояса от Причерноморья до Тувы. Так, на детально исследованном могильнике Чаухугоу-4 из 248 погребений после середины VI в. до н. э. было сооружено только пять курганов. Похожая ситуация фиксируется на могильниках Чаухугоу-1 и Хабуцихань, насчитывающих примерно по 700 захоронений VIII-V вв. до н. э. В сер е дине VI в. до н. э. население культуры чауху резко сократилось, огромные могильники почти перестали достраиваться, и концу V в. до н. э. культура прекращает своё существование. Подчеркнём, что изменения форм и типов предметов вооружения, украшений, сбруйной и поясной фурнитуры происходило в ча-уху в той же хронологической последовательности, как и на Саяно-Алтае.
Из памятников V-III в в . до н. э. особый ин т ерес пр е дстав л яет расположенный неподалёку от г. Турфана могильник Цзяохэ Гоубэй. Китайскими исследователями он был датирован в рамках эпохи Хань (II в. д о н. э. – II в. н. э.), но материал из основных погребений оказался более ранним -V-III вв. до н. э. [Кубарев, Шульг а , 2007, с. 24; Шуль г а, Ва рёнов, 2 00 8].
Дополнительный анализ погребального обряда и инвентаря позволил вычленить из общей массы могилы эпохи Хань, в одной из которых (М01mj) была найдена монета у-чжу. Эти захоронения, действительно, датируются не ранее II в. до н. э. и синхронизируются с погребениями на западном (?) могильнике у Городища Цзяохэ [Молодин, Кан Ин Ук, 2000]. Могилы гуннского времени в Цзяохэ продолжают сохранять широтную ориентацию, но имели иное устройство, а умершие погребались головой в западный сектор, тогда как в могилах скифского времени хоронили головами на ВСВ.
Значимые результаты дал анализ погребального обряда скифского времени. По устройству могилы в курганах М16, М01 Цзяохэ Гоубэй подобны погребениям в подбоях из Янхая-2,3, но имеет особенности, связанные с подхоронениями лошадей и верблюдов. Предварительно выделяется три варианта таких погребений.
Вариант I. В центральной части этих элитных курганов имелась сложенная из саманных кирпичей ограда, по центру которой располагалась основная могила с погребением людей, а к северу от неё устраивалась яма с захоронениями лошадей, иногда верблюдов. Пространство в ограде могло закладываться в один или несколько слоёв саманными кирпичами. Захоронение людей совершалось в подбое, сооружённом в южной стенке. Иногда имелся дополнительный подбой в северной стенке. У входа в подбой устанавливался заслон из брёвен. Умершие, как правило, погребались на спине, вытянуто, головой на В или ВСВ. В рамках этого типа погребений в Цзяохэ зафиксировано ещё два варианта погребального обряда с подхо-ронениями лошадей.
Вариант II. Прослежен в погребении М16k16, распол о женном рядом с элитным курганом М16. В М16k16 у южной стенки могилы находился костяк человека годовой на ВСВ. К северу от человека на том же уровне размещались шкуры двух лошадей, уложенных черепами также на ВСВ.
Вариант III. Представлен в третьем раскопе «тангоу», где исследованы могилы с захоронениями людей головой на восток, но не на дне входной ямы, а в углубленном подбое. Лошадь располагалась к северу от человека на образованном уступе.
Фактически эти погребения являются разновидностями пазырыкского погребального обряда, предполагавшего захоронение ориентированных в восточный сектор человека с лошадью на приступке. Снаряжение многих лошадей в Цзяохэ включало роговые сбруйные наборы, подобные найденным на Алтае, но особенности погребального обряда, керамика и инвентарь не оставляют сомнений в местном характере рассмотренного памятника. Думается, в Цзяохэ Гоубэй зафиксированы захоронения группы населения, входившей в состав общности племён, заселявших в V-III вв. до н. э. Джунгарию, Восточный Казахстан, Горный Алтай и частично юго-западную часть Монголии. Подтверждением тому служит и типично пазырыкское по описанию погребение в кургане 22 могильника Кээрмуци, расположенного в предгорьях Алтая на Севере Джунгарии. Погребённые люди располага- лись там у южной стенки, головами на восток. В северной части могилы на приступке размещалась лошадь. К востоку от кургана сохранился балбал [Варёнов, 1999, с. 30]. Следует добавить, что в Алагоу (М30) помимо известных серебряных подвесных сбруйных блях с изображениями хищников, имелись четыре накладки на седельные луки седла. Все эти детали находились за северной стенкой сруба. Эта черта обряда также имеет ближайшие аналогии в пазырыкской культуре. Впрочем, о культурной близости и этнической однородности населения северо-западного Синьцзяна и пазырыкцев Горного Алтая писалось ещё на начальном этапе знакомства с материалами из Восточного Туркестана [Полосьмак, 1998, с. 341-342]. Там же было высказано мнение о связях пазырыкцев с населением древнего Синьцзяна, и об использовании ими верблюдов «для дальних переходов через труднопроходимые горные перевалы, через безводные Гоби и Такла-Макан». Судя по всем имеющимся данным, предположения о близости населения этих соседствующих территорий будут получать всё новые подтверждения.