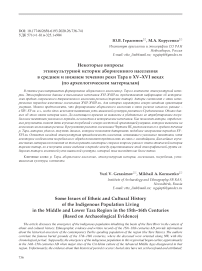Некоторые вопросы этнокультурной истории аборигенного населения в среднем и нижнем течении реки Тара в XV-XVI веках (по археологическим материалам)
Автор: Герасимов Ю.В., Корусенко М.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается формирование аборигенного населения р. Тара в контексте этнокультурной истории. Этнографические данные и письменные источники XVI-XVIII вв. предоставляют информацию об исторических предках современного тюркоязычного населения региона (тарских татар). Авторы соотносят с этим историческим периодом известные могильники XVII-XVIII вв., для которых характерна северо-западная ориентация умерших. Можно предположить, что формирование аборигенного населения в этом регионе началось раньше -в XIV-XVвв. н.э., когда здесь исчезают памятники устъ-ишимской культуры развитого Средневековья. Однако данных об этом этапе истории мало. До настоящего времени не выявлены и убедительно не атрибутированы погребальные памятники указанного периода, не известны и исторические источники. Как полагают авторы, определенные результаты может дать изучение погребений с северо-восточной ориентацией умерших, которые выявлены на нескольких могильниках региона. В результате раскопок могильника Черталы III, расположенного в среднем течении р. Тара, авторам удалось получить данные, которые позволяют датировать подобные захоронения периодом XV-XVI вв. Остается загадкой этнокультурная принадлежность населения, оставившего указанные памятники, хотя некоторые особенности погребального обряда позволяют предполагать их связь с самодийцами. Дальнейшее изучение таких материалов позволит не только решить некоторые спорные вопросы раннего этапа этнической истории тарских татар, но и получить новые сведения о периоде между существованием этой этнографической группы сибирских татар и носителей устъ-ишимской культуры, который пока выглядит как белое пятно.
Р. тара, аборигенное население, этнокультурная история, могильники, погребения, устъ-ишимская культура, контакты
Короткий адрес: https://sciup.org/145145140
IDR: 145145140 | УДК: 571(=1-81)+325.1+904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.736-741
Текст научной статьи Некоторые вопросы этнокультурной истории аборигенного населения в среднем и нижнем течении реки Тара в XV-XVI веках (по археологическим материалам)
В настоящей работе авторы предлагают рассмотреть некоторые аспекты этнической истории коренного населения южнотаежного Прииртышья в период позднего Средневековья – Нового времени с учетом археологических данных, полученных за последние годы.
В конце XVI в. в южнотаежном Прииртышье появляется русское население, положив начало формированию современной этниче ской картины. К этому моменту на территории интере сующего нас региона – среднего и нижнего течения р. Тара, которая является географической границей зон южной тайги и лесостепи, – существовала сеть населенных пунктов аборигенного населения, которое затем в этнографической литературе получило обозначение «тарские татары», подгруппа «аялу». Н.А. Томилов в своей работе, посвященной этнической истории тюркоязычного населения Тоболо-Иртышско-го междуречья, приводит сведения Б.О. Долгих, полученные из ревизских сказок начала XVII в. с перечнем деревень (аулов) аборигенного населения, которые уже существовали в регионе [Томилов, 1980]. Из письменных документов известны только названия населенных пунктов, места их расположения можно только предполагать с известной долей условности.
Данные, которые нам стали доступны в результате комплексных археолого-этнографических исследований, свидетельствуют, что, как правило, у большинства современных населенных пунктов тарских татар выявлены комплексы археологических объектов, состоящих из поселения и могильника позднего Средневековья, предположительно оставленных их историческими предками. Их изучение началось сравнительно недавно, тем не менее к настоящему времени в регионе среднего и нижнего течения р. Тара обнаружена и в разной степени исследована серия могильников, датируемых XVII–XVIII вв., для которых характерна определенная специфика погребального обряда. К числу таких памятников отно сятся могильники Чеплярово XXVII, Окуне-во VII, Бергамак II, Черталы III, Надеждинка VII, Льнозавод IV, Кыштовка-2.
Упомянутые некрополи представляют собой могильные поля небольших подовальных или подпрямоугольных в плане насыпей, высотой от 0,15–0,2 м до 0,4–0,6 м, ориентированных по линии СЗ – ЮВ. В могильниках насчитывается от нескольких десятков до нескольких сотен таких насыпей, как правило, расположенных на мысо-видных участках коренной террасы р. Тара. Стоит отметить, что каждый из известных могильников имеет свое «лицо» – насыпи размещаются в таких объектах в определенном порядке, могут иметь или не иметь следов опоясывающих или прерывистых ровиков и т.д. Захоронения совершались в относительно глубоких подпрямоугольных ямах, размер которых коррелировал с ростом погребенного. Часто ямы перекрывались продольно расположенными плахами, на которых (или вблизи) фиксируются следы погребального костра, засыпавшегося землей при сооружении насыпи. Умерший укладывался вытянуто на спине, головой на северо-запад. Погребальный инвентарь включал элементы одежды, орудия труда, иногда – оружие, ритуальные предметы. Характерной чертой можно считать отсутствие керамических сосудов в могилах, хотя в насыпях они иногда встречаются, равно как и небольшие медные котлы. Насыпи в некоторых случаях заключали в себе имитацию сруба наземного жилища высотой в 2–3 венца. Как правило, такие сооружения прямоугольные в плане и призматические в сечении.
Находки, полученные при раскопках насыпей северо-западной ориентации на могильниках Че-плярово XXVII, Окунево VII, Бергамак II, Черта-лы III, Льнозавод IV, Кыштовка-2, позволили датировать погребения по нумизматическому материалу - нюрнбергским счетным жетонам [Корусенко, Милищенко, 2002] и сопроводительному инвентарю – концом XVI – XVIII в. Описанные комплексы убедительно интерпретируются как оставленные историческими предками тарских татар. На наш взгляд, к этому же кругу памятников следует отнести и могильник Кыштовка-2 на основании следующих соображений. Прежде всего, это сходство погребального обряда в деталях: ориентация и положение умерших, устройство погребальных сооружений, инвентарь. Крестовидные бляшки, которые В.И. Молодин посчитал свидетельством принадлежности памятника хантыйскому населению, обнаружены также в могильнике Окунево VII [Матющенко, 2003, с. 33, рис. 69]. До настоящего времени в регионе не обнаружено ни одного могильника типа Кыштовки-2, который был бы убедительно интерпретирован как хантыйский, между тем сходные с этим памятником до деталей некрополи убедительно связываются с историческими предками тарских татар.
Характерной особенностью большинства таких некрополей являются приуроченные к краям террас цепочки курганных насыпей, отличающихся от описанных выше размерами и высотой. Датировка изученных курганов укладывается в период существования потчевашской и усть-ишимской культур. Планиграфически указанные насыпи являются основанием структуры погребального комплекса позднего времени. Данные наших наблюдений свидетельствуют о том, что территории распространения усть-ишимских комплексов и памятников, связываемых с предками тарских татар, в пределах как минимум южнотаежной зоны совпадают.
В научной литературе утвердилась точка зрения о том, что население, оставившее памятники усть-ишимской культуры, ассоциируется с угорским этнокультурным пластом таежной зоны; хронологические рамки бытования культуры доводятся до начала XIV в. Таким образом, в археологических материалах фиксируется лакуна протяженностью без малого 300 лет, которая не позволяет решить вопрос о месте и роли населения развитого Средневековья в процессе формирования различных этнических подразделений тоболо-иртышской группы сибирских татар.
В настоящее время среди исследователей нет единой точки зрения на этот процесс. Общим ме стом является признание того факта, что различные этнические группы тоболо-иртышских татар, бытование которых зафиксировано в исторических источниках начала XVII в., сложились на основе синтеза угорского нас еления тайги и тюркского – лесостепи. Процессы этнической консолидации происходили в разных условиях, что и определило этнокультурные различия локальных групп сибирских татар. Конкретные формы и механизмы указанного процесса остаются предметом дискуссий. Так, В.И. Молодин, В.И. Соболев и А.И. Соловьев выдвинули тезис о том, что на основе носителей усть-ишимской культуры при участии тюркского населения, пришедшего в лесостепь Западной Сибири из Алтайских степей, сформировалась этническая группа южных хантов, которая оставила могильники Кыштовка-1 738
и -2. Характерные черты погребальной обрядности этой группы, выступающие этнокультурным маркером: вещевой комплекс, захоронения под невысокими овальными насыпями в подпрямоугольных ямах, ориентация погребенных головой на северо-запад, использование огня в ритуале. В отличие от этой линии генезиса, этническая общность бара-бинских татар сложилась в Центральной Барабе на основе тюркского населения лесостепи, испытавшего культурное влияние угорских традиций [Мо-лодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 195]. С этим населением связаны могильники Преображенка-3, Малый Чуланкуль-1, Абрамово-10, характерными чертами обрядности для которых являются захоронения под округлыми куполообразными насыпями в ямах подпрямоугольной формы, с отвесными стенками и ровным дном, с ориентацией погребенных на юго-запад. К этому же кругу памятников исследователями отнесен и могильник Крючное-6, хотя он и обладает определенной спецификой, отраженной в элементах погребальной обрядности (наиболее яркая черта – ориентация погребенных на северо-восток). Авторы объясняют указанную особенность инверсией традиции, связанной с ориентацией на закат, которая проявилась в северном памятнике «южного татарского населения, глубоко внедрившегося в таежное окружение и при этом сохранившего черты своего этнического колорита» [Позднесредневековые комплексы…, 2012, с. 108]. Наряду с угорским и тюркским компонентами определенную роль в этнической истории коренных народов сыграло самодийское население, что отражено в некоторых погребениях изученных комплексов, но детализировать ее пока не удалось из-за слабости источниковой базы.
С.С. Тихонов и С.Ф. Татауров полагают, что к формированию этнической группы тарских татар привела трансформация усть-ишимской культуры на протяжении XIV–XVI вв. под влиянием тюркских традиций. Указанный процесс, по мнению ученых, нашел отражение в материальной культуре, в т.ч. керамике [Татауров, Тихонов, 2002, с. 133]. Развивая эту идею, авторы в своих новейших публикациях предлагают считать усть-ишимскую культуру историографическим заблуждением, рассматривая XI–XIV вв. как период эволюции культуры тюркского населения южнотаежной зоны, которое приводит в XVI столетии к образованию этнических подразделений сибирских татар, впрочем, не обременяя себя каким-либо обоснованием этой революционной идеи [Татауров, Тихонов, 2019, с. 111].
Утверждению о прямой преемственности усть-ишимского населения и некоторых этниче ских групп сибирских татар, как нам представляется, противоречат накопленные к сегодняшнему дню данные. Сравнительный анализ показывает, что в погребальных памятниках усть-ишимской культуры развитого Средневековья и погребениях Нового времени фиксируются черты как сходства, так и отличия. Ярким проявлением региональной традиции можно считать устоявшуюся ориентацию погребенного головой в сектор З – ССЗ. Но если в могильниках усть-ишимской культуры указанная ориентация является просто преобладающей, составляя порядка 60 %, при этом сосуществуя с ориентацией к югу и юго-востоку, то для погребений XVI–XVII вв. эта черта становится абсолютно преобладающей. Следует отметить и своеобразное использование огня в погребальном обряде: костер разводился на плахах перекрытия и засыпался землей в процессе сооружения насыпи. Зафиксированная на некоторых погребениях усть-ишимской культуры эта практика получает широкое распространение в могильниках XVI–XVII вв.
Различия традиций проявляются, в первую очередь, в самой организации некрополей: на поздних памятниках количество насыпей исчисляется сотнями, в то время как на усть-ишимских ограничено двумя-тремя десятками. Данное новшество иллюстрирует, как мы полагаем, изменение представлений о смерти, согласно которым теперь следовало погребать всех умерших на одном кладбище и по единому обряду. Следует отметить тенденцию к сокращению размеров насыпей и могильных ям при углублении последних; наконец, исчезает обычай помещать в погребение сосуд. Изменяется вид внутри- и надмогильных элементов, конструкций и сооружений. Таким образом, археологические материалы, по которым можно реконструировать элементы погребальной обрядности, не позволяют сделать однозначный вывод о механизмах и степени этнокультурной преемственности между населением усть-ишимской культуры и историческими предками тарских татар.
Одним из устойчивых признаков этнокультурной принадлежности погребальных памятников обоснованно считается ориентация умершего. Для изучаемого региона указанный маркер выглядит следующим образом: захоронения барабинских татар ориентированы на юго-запад, в могильниках тарских татар преобладает северо-западное направление. Кроме того, для указанных захоронений не характерно помещение в могилы сосудов. Интересно отметить, что на Кыштовке-2 сосуды не встречались в погребениях с северо-западной ориентацией, но два таких предмета обнаружены в могилах, обращенных на юго-восток. Это обстоятельство также свидетельствует о том, что данный комплекс следует рассматривать как однокультур- ный могильник, соотносимый с историческими предками тарских татар, а не южных ханты.
Материалы, полученные в 2014 г. при исследовании могильника Черталы III, позволяют сформулировать новый подход к рассмотрению проблемы формирования этногенеза коренного населения южнотаежного Прииртышья. При раскопках на этом некрополе был выявлен анклав погребений, которые отличаются некоторой спецификой погребального обряда [Герасимов, Корусенко, 2014]. Захоронения совершались в ямах глубиной 20–30 см, умершие укладывались головой на СВ. Сопроводительный инвентарь в погребениях этой группы отно сительно небогат: сосуды с заупокойной пищей, небольшие ножи и наконечники стрел, бусины. Большинство могил перекрыто невысокими, до 0,4 м, насыпями овальной формы, ориентация которых совпадает с ориентацией ямы. Особенностью погребального ритуала этой группы можно считать наличие керамических сосудов в захоронениях. Интересное погребение исследовано в кург. № 21. Насыпь кургана округлых очертаний, диаметром до 4,5 м и высотой 1,2 м, умерший уложен вытянуто на спине, в яме глубиной 0,8 м, головой на СВ. Свидетельств использования огня в ритуале не отмечено. Сопроводительный инвентарь включает небольшой бронзовый котел с остатками заупокойной пищи, набор железных и ко стяных наконечников стрел, детали колчана, железные кольчатые удила, бронзовое зеркало в берестяном чехле. На лицевой части черепа зафиксированы остатки погребальной маски (?) в виде трех бронзовых фигурок рыбок, расположенных на глазницах и отверстии рта, и клыка хищника в области носа. В двух случаях удалось установить, что могилы этого типа перекрыты погребениями с северо-западной ориентацией, что позволяет утверждать более позднее происхождение последних. В пользу более ранней датировки погребений с северо-восточной ориентацией говорит и сопроводительный инвентарь, более архаичный по своему облику и составу. Так, в этом комплексе отсутствуют монеты; ножи и наконечники стрел морфологически тяготеют не к русским образцам, а к более ранним местным формам.
Таким образом, в составе могильника Черта-лы III был выявлен неизвестный ранее анклав погребений, ближайшие аналоги которого можно увидеть в могильнике Крючное-6, расположенном выше по течению р. Тара [Позднесредневековые комплексы…, 2012]. Кроме того, единичные захоронения такого типа известны в могильниках Кыш-товка-2 и Надеждинка VII. До настоящего времени эти погребения интерпретировались как инверсия могил с юго-западной ориентацией, оставленных историческими предками сибирских татар. Полученные нами материалы дают достаточные основания оспорить такую атрибуцию. Хронологически подобные комплексы следует рассматривать как предшествующие комплексам с северо-западной ориентацией, но для их этнокультурной интерпретации данных пока не достаточно. Некоторые особенности ритуала и компоненты вещевого комплекса позволяют предполагать культурно е влияние таежного (южнохантыйского или самодийского) населения [Герасимов, Корусенко, 2017].
Интерпретация погребений с северо-восточной ориентацией как инверсия юго-западной, предложенная исследователями могильника Крючное-6, на наш взгляд, является ошибочной по ряду причин. Историографически подход авторов понятен – комплекс долгое время оставался единичным памятником, аналоги которому отсутствовали. Единичные захоронения с северо-восточной ориентацией умерших в могильнике Кыштовка-2 логично было рассматривать в контексте преобладающей обрядности. Но комплекс, изученный в составе некрополя Черта-лы III, позволяет иначе понять ситуацию.
Могильники с северо-восточной ориентацией погребенных следует рассматривать как проявление этнокультурной традиции, отличной от зафиксированных ранее. В пользу этого говорит не только ориентация, но и другие элементы погребального обряда. Так, для данных захоронений характерно наличие в составе сопроводительного инвентаря сосудов, а также отсутствие счетных жетонов, монет и других предметов русского импорта, что резко отличает их от могил с северо-западной и юго-западной ориентацией. Выделяют указанные комплексы и такие детали, как устройство могильных ям, форма насыпей, отсутствие следов огня в ритуале. С высокой долей уверенности можно говорить о том, что носители данной культурной традиции приняли участие в сложении аборигенного населения Тарского Прииртышья, но определить их роль и место в этом процессе пока сложно.
Таким образом, приведенная нами аргументация позволяет сформулировать гипотезу о том, что именно нас еление, оставившее комплексы с северо-восточной ориентацией на ряде могильников среднего течения и низовий р. Тары, может быть ассоциировано с выходцами из таежного мира, скорее всего самодийцами. В дальнейшем эти группы, вероятно, вошли в со став локальных групп тарских татар, что нашло отражение в этногенетических преданиях, зафиксированных в д. Черталы и других населенных пунктах среднего течения р. Тара при этнографических сборах второй половины XX в.
Список литературы Некоторые вопросы этнокультурной истории аборигенного населения в среднем и нижнем течении реки Тара в XV-XVI веках (по археологическим материалам)
- Герасимов Ю.В., Корусенко М.А. Средневековые погребения из состава могильника Черталы-4: некоторые результаты изучения // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2014. - С. 146-148.
- Герасимов Ю.В., Корусенко М.А. Погребения с северо-восточной ориентацией в Тарском Прииртышье: проблемы интерпретации // Культуры и народы Северной Евразии: взгляд сквозь время: мат-лы междунар. конф., посвящ. 80-летнему юбилею Л.А. Чиндиной. -Томск: ИД "Принт", 2017. - С. 143-147.
- Корусенко М.А., Милищенко О.А. Счётные пфенниги из памятников в низовьях р. Тары // Этнографоархеологические комплексы: проблемы культуры и социума. - Новосибирск: Наука, Сиб. предприятие РАН,2002. - Т. 5. - С. 110-122.
- Матющенко В.И. Могильник на Татарском увале у д. Окунево (ОМ VII). Раскопки 1998, 1999 годов // Новое в археологии Прииртышья. - Омск: Ом. гос. ун-т,2003. - Вып. 3. - 64 с. + 93
- Молодин В.И., Соболев В.И., Соловьев А.И. Бараба в эпоху позднего средневековья. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. - 262 с.
- Позднесредневековые комплексы на озере Крючное (Средняя Тара) / В.И. Молодин, А.В. Новиков, Д.В. Поздняков, А.И. Соловьев. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН; Новосиб. гос. ун-т, 2012. - 162 с.
- Татауров С.Ф., Тихонов С. С. Тарское Прииртышье в XIV-XVI вв. // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. - Новосибирск: Наука, Сиб. предприятие РАН, 2002. - Т. 5. - С. 122-133.
- Татауров С.Ф., Тихонов С.С. Средневековые древности Тарского Прииртышья (генезис, хронологическая принадлежность, культурно-этническая интерпретация) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2019. - Т. 47, № 1. - С. 103-112.
- Томилов Н.А. Тюркоязычное население Западно Сибирской равнины в конце XVI - первой четверти XIX в. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1980. - 276 с.