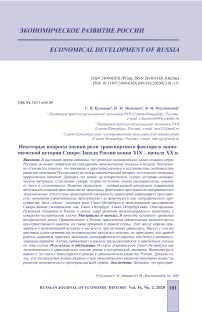Некоторые вопросы оценки роли транспортного фактора в экономической истории северо-запада России конца XIX - начала XX в
Автор: Кузнецов Сергей Валентинович, Межевич Николай Маратович, Разумовский Владимир Михайлович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Экономическое развитие России
Статья в выпуске: 2 (49), 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. В настоящее время очевидно, что решение экономических задач, стоящих перед Россией, не может опираться на стандартные экономические подходы и модели. Постепенно становится понятно, что внимание к пространственным и историческим особенностям развития экономики России имеет не только академический интерес, но и вполне очевидное практическое значение. Доказать это можно на историческом, точнее, историко-экономическом материале. Собственно говоря, теория логистики, взятая расширительно, именно от этого и отталкивается. Развитие транспорта - универсальный инструмент сокращения негативного влияния пространства на экономику, физическое пространство превращается в экономическое. Отсутствие транспортной связанности территорий девальвирует пространство экономики (экономическое пространство) до физического или географического пространства. Цель статьи - показать роль Санкт-Петербурга в экономическом пространстве Северо-Запада (понимаемом как Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская, Новгородская, Псковская губернии) и России в целом через развитие железнодорожного транспорта в конкретно-историческом ключе. Материалы и методы. В качестве основного применен исторический метод. Применительно к России практически обязательным является метод пространственного анализа, он также применен в данной статье. Этот метод широко применялся в экономической истории, в частности, при изучении транспорта. Вместе с тем мы признаем существование исследовательских методов и методик, не пригодных для данной работы, например, практики экономико-демографического анализа, тем более в неомальтузианском варианте. Авторы привлекают к анализу труды российских и зарубежных ученых по теме статьи. Результаты и обсуждение. В статье показана роль Санкт-Петербурга как экономического и транспортного центра, взятая в исторической динамике. Выявлена роль важного, но одного транспортного центра в экономическом развитии России. Доказан тезис, что оптимальный выбор опорных точек экономического развития позитивно влияет на развитие экономического пространства всей страны. Заключение. Доказано, что пространственные масштабы России способствуют тому, что финансовые результаты хозяйственной деятельности могут локализовываться на значительном удалении от места осуществления экономической деятельности
Пространство России, экономическая история, северо-запад, санкт-петербург, железнодорожный транспорт, экономическое развитие
Короткий адрес: https://sciup.org/147218543
IDR: 147218543 | УДК: 94:330.3:656.09 | DOI: 10.15507/2409-630X.049.016.202002.101-111
Текст научной статьи Некоторые вопросы оценки роли транспортного фактора в экономической истории северо-запада России конца XIX - начала XX в
Рассматривая вопросы формирования экономического пространства современной России, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой ключевых точек, фиксируемых в истории, но имеющих пространственно-экономическое выражение. Политическая хронология не очень пригодна в данном случае. Спрашивается, что изменилось в экономическом пространстве России 7 ноября 1917 г. или 31 декабря 1991 г.? Новые качества экономического пространства «прорастут» спустя годы. Важно отметить, что признание этого обстоятельства применительно к экономической истории России началось на рубеже эпох, в годы перестройки1. Именно это – позитивная инерционность экономического пространства – должно привлекать внимание. В этом контексте понятно, что внимание к экономической истории России, роли транспорта как в командной экономике, так и до нее характерно для российских и зарубежных ученых.
Взаимосвязь пространственного и исторического компонентов неоднократно подчеркивалась лучшими представителями российской историко-философской школы. И. Л. Солоне-вич писал: «Наша свобода и наше богатство ограничены русской географией… История России есть преодоление ее географии»2. Конечно, это излишне категорично, на самом деле необходимо говорить о едином пространственно-временном процессе эволюции экономического пространства. «Природные и географические особенности, социальная история, феномен культуры и другие факторы среды обитания обусловливают различия в состоянии экономики регионов, а наличие богатых ресурсов, удобное географическое расположение определяют стартовый уровень и пути их развития. Это так называемая статическая необратимость положения, объективно дающая те или иные относительные преимущества при освоении территории» [3, c. 34].
Следует обратить внимание на несколько принципиально важных историко-экономических и географических характеристик России, показывающих специфику построения капитализма и железных дорог как их символа в любой стране. Российская империя примерно соответствовала 1/5 суши. Такой пространственный феномен был главным для понимания «русской души и русской экономики».
По мнению А. В. Дулова, «Европа в целом отличается большой расчлененностью, изрезанностью береговой линии. На долю островов и полуостровов приходится треть (34 %) всей территории. Однако подавляющее большинство островов и полуостровов находится в Западной Европе. Континентальность является характернейшей чертой Восточной Европы, особенно резко контрастирующей с остальной Европой, большинство стран которой имеют выход к морю и значительную береговую линию. Если больше половины всей территории Европы (51 %) расположено менее чем в 250 км от моря, то для Европейской России соответствующая цифра составляет не более 15 %. В Восточной Европе есть точки поверхности, отстоящие от моря на 1 тыс. км: в Западной же Европе самое большое расстояние до морского берега – 600 км» [Цит. по: 8, c. 12]. Конечно, «континентальность» азиатской части России значительно выше. Иными словами, развитие морского транспорта – самого дешевого, помимо трубопроводного, – дает дополнительные конкурентные преимущества тем странам, которые имеют соответствующие возможности – сквозные морские маршруты. Однако Россия, имея уникальные по протяженности морские границы, возможностей экономически эффективного перемещения грузов лишена. Да, можно привезти груз из Керчи в Кронштадт, но проще и дешевле это сделать по железной дороге. Если очень коротко говорить о климате, то отметим, что «морозы и засухи, проливные дожди в России Х–ХХ века не необычные, а вполне стандартные явления, препятствующие нормальному экономическому развитию»3.
В. Т. Рязанов рассмотрел влияние географического фактора на экономическое развитие России ХIХ–ХХ вв.: «Прежде всего, выделим существенное сдерживающее влияние территориального фактора по нескольким важным позициям. Огромные расстояния сами по себе мешают возникновению налаженных и регулярных рыночных обменов, затрудняют объективно необходимое формирование единого национального рынка»4. Подобные условия потребовали развития именно железнодорожного транспорта.
Издержки однотипной экономической деятельности существенно выше в России, чем в странах с более благоприятными условиями географии. Одной из форм преодоления этой ситуации стало повышение роли государства. Подчеркнем, этот процесс начался задолго до 1917 г. «Российское правительство делало то, что в других странах осуществлялось посредством использования рычагов развивающегося свободного рынка», причем интерес правительства был обусловлен «стратегической важностью создания железных дорог и общими политическими соображениями»5. Это обстоятельство стало основой для фундаментальной дискуссии об эффективности государства, качестве роста и их взаимозависимости [12].
В этих условиях следует максимально реализовать преимущества географического характера и при этом по возможности нивелировать негативное влияние тех про- странственных факторов, которые традиционно рассматриваются как препятствие в развитии. Уникальные предпосылки для социально-экономического развития России определила ее география.
Обширность внутреннего рынка создала предпосылки замкнутости на собственное экономическое пространство, но для этого его нужно было объединить железнодорожным транспортом. Обширность и редкая заселенность территории отрицательно влияли на возможность строительства и функционирования круглогодичных, регулярных и скоростных путей сообщения. А. И. Чупров полагал, что «нет отрасли народной деятельности, которая прямо или косвенно не испытывала бы влияния рельсовых путей, так что предпринимать полную его оценку значило бы написать хозяйственную историю последних 40 лет»6. Причем именно географические факторы способствуют развитию железнодорожного транспорта, несмотря на недостаток средств и общую бюрократическую косность. «Россия, вследствие обширности ее территории и отдаленности мест производства важнейших продуктов от мест их потребления и вывоза, едва ли не более нуждалась в улучшенных путях, нежели остальные европейские страны»7.
Следует отметить и то, что зарубежные исследователи признавали особую значимость железнодорожного транспорта. П. Грегори, подчеркивая особую роль железнодорожного транспорта, даже выстраивал периодизацию отношений с Европой на этой основе. «“Современные” экономические взаимоотношения России с Европой можно разделить на четыре этапа. Первый из них начинается со вступлением России в современный мир где-то между освобождением крестьян в 1861 г. и началом крупного железнодорожного строительства в конце 1870-х – начале 1880-х гг., а заканчивается революцией 1917 г.»8.
Методы
Экономическая история России – объект уникальной сложности. Соответствующая сложность характеризует и методы исследования. При введении в анализ пространственного фактора сложная задача становится практически нерешаемой. При этом пересечение академических полей истории, экономики и географии потенциально дает интереснейшие научные результаты. Укажем и на то, что наличие глобального подхода не отрицает целесообразность регионального подхода. Равным образом комплексность рассмотрения хозяйства предполагает внимательное отношение к отдельным отраслям, в частности к железнодорожному транспорту – объекту как исторически детерминированному, так и пространственно представленному.
В качестве основного в статье применен исторический метод. Применительно к России практически обязательным является метод пространственного анализа, он также применен в данной статье. Этот метод широко применялся в экономической истории, в частности, при изучении транспорта. Вместе с тем мы признаем существование исследовательских методов и методик, не пригодных для данной работы, например, практики экономико-демографического анализа, тем более в неомальтузианском варианте. Авторы привлекают к анализу труды российских и зарубежных ученых по теме статьи.
Результаты и обсуждение
Согласно авторской гипотезе исследования, пространственные масштабы России предполагают, что финансовые результаты экономической деятельности могут лока-лизовываться на значительном удалении от места осуществления экономической дея- тельности. С точки зрения экономической теории это норма. Однако для эффективного хозяйственного развития, особенно в пространственном аспекте, в империи применялась политика стимулирования мобильности факторов производства. Опыт Российской империи в организации железнодорожного транспорта обладает особой ценностью в условиях, когда практики рыночной экономики с широким государственным участием вернулись в хозяйственную практику. С точки зрения авторов, лучшие практики хозяйственного управления развитием железнодорожного транспорта прослеживаются на примере Северо-Запада России. Применимость этого опыта определяется общим сходством хозяйственных и в ряде случаев управленческих практик между Российской империей конца XIX – начала XX в. и современной Российской Федерацией.
В Российской империи железные дороги в первую очередь учитывали стратегические интересы страны и опирались на столицу. Крымская война показала отсутствие хороших дорог в России, неразвитое транспортное сообщение. Для реализации планов по строительству сети в 1857 г. создано Главное общество Российских железных дорог с масштабным участием русского, французского, английского, немецкого банковского капитала. Укажем на еще одну важную характеристику экономического пространства Российской империи в конце ХIХ – первом десятилетии ХХ в. В промышленности существенную долю составлял государственный капитал, на который в ряде случаев возлагались контрольные функции. При этом «примерно шестая часть акционерного капитала в России на рубеже XX в. имела иностранное происхождение» [9, c. 585], но иностранный капитал присутствовал и контролировал не менее 50 % российской промышленности. Российский капитал преобладал лишь в легкой промышленности и торговле. Роль железнодорожного транспорта как стратегической от- расли экономики сформировалась именно в Российской империи9. «За пятилетие с 1868 по 1872 г. среднегодовой показатель строительства новых линий составил 1 913,8 км/год, за пятилетие 1873–1877 гг. аналогичный показатель составил 1 305,6 км/ год. Таким образом, за десятилетие с 1868 по 1877 г. среднегодовой показатель строительства новых линий составил 1 609,7 км/год. Многие историки отмечали, что за советский период (1918–1991 гг.) не был достигнут уровень темпов строительства новых линий» [11, c. 25]. Необходимость дальнейшего строительства железных дорог для экономического развития и укрепления обороноспособности Российской империи была определена уже при Александре II. В 1857 г. император подписал указ о создании новых железных дорог на основе привлечения иностранного и частного капитала к строительству железных дорог.
Построенные в 1860–1870-х гг. железнодорожные линии соединили Санкт-Петербург с крупными городами Поволжья, Урала, Сибири. Иными словами, привели грузы к портам Балтийского моря. Для координации этой деятельности в 1865 г. образовано Министерство путей сообщения. Без работы министерства без больших проблем удавалось строить большие по европейским масштабам дороги. Однако без министерства не удалось бы реализовать стратегический проект Транссибирской магистрали. Н. Г. Гарин-Михайловский, писатель и инженер-путеец, писал: «Нам железные дороги необходимы как воздух, как вода. Восток гибнет оттого, что нет до-рог»10. Редкий пример оценки, которая не устаревает никогда. Значительный вклад в великую стройку века внес С. Ю. Витте. Именно при нем была окончательно разработана система тарифов, в большей или меньшей степени ориентированная на стимулирование экономического развития страны. Оценивая роль государственного вмешательства и, соответственно, тарифов, Витте писал: «Государственное вмешательство в область железнодорожных тарифов с целью ограничения сферы свободного действия закона спроса и предложения необходимо тогда, когда это явственно вызывается государственными потребностями или защитою интересов слабых. Пределы такого вмешательства, подсказываемые благоразумием, должны зависеть от условий времени и места»11. Расширение сбыта достигалось введением транспортных тарифов по принципу платежеспособности, на основе чего они снижались по мере увеличения расстояния, на которые перевозились грузы. Такое построение тарифов, осуществленное в России под непосредственным воздействием предпринимателей и синдикатов, чрезвычайно расширяло границы сбыта промышленной продукции уже существовавших предприятий в старых районах страны. Более того, подобное регулирование замедляло развитие промышленности в новых районах, куда по низким тарифным ставкам поступала продукция из «старых промышленных» районов. Вместе с тем «платежеспособные» тарифы очень удешевляли стоимость доставки сырья в Санкт-Петербург и центральные губернии России, где промышленность работала на привозном сырье и топливе12.
Неудовлетворительные итоги технологической, тарифной и пространственной политики в сфере железнодорожного транспорта привели к созданию Высочайше учрежденной особой высшей Комиссии для всестороннего исследования железнодорожного дела в России. В документах Комиссии было указано на большое количе- ство проблем, однако признано, что именно благодаря строительству железных дорог в начале XX в. сформировались финансовопромышленные группы, опирающиеся на железные дороги.
Важной задачей этих монополистических объединений было увеличение прибыли. Для этого нужно было наряду с установлением высоких монопольных цен качественно расширить границы сбыта продукции уже существовавших промышленных районов и оградить их от конкуренции со стороны новых районов. Далее будет указано на конкуренцию портов Санкт-Петербурга и Архангельска, причем эта конкуренция базировалась именно на возможностях прилегающих железных дорог.
В течение всей империалистической стадии русского капитализма монополии не встали на путь развития промышленности в каких-либо новых районах страны. Наоборот, в XX в. новое строительство сосредоточивалось в районах, выросших еще в дореформенную эпоху (именно в этой небольшой группе мы видим Санкт-Петербург), или в эпоху промышленного капитализма, или на Урале и в Сибири, но имеющих внешнеэкономический выход именно через Петербургский порт.
Итак, российская промышленность вплоть до 1910–1912 гг. оказалась «сдавленной» в пределах Центрального промышленного, востока Украины и Северо-Западного (Петербургского) районов. Крупным промышленным центром России был, есть и будет Санкт-Петербург. «Во второй половине XIX века город давал до 70 % продукции машиностроения, выпускавшейся в стране. К началу Первой мировой войны в городе производилось 70 % российской электротехники и примерно 25 % машин и оборудования. В 1913 году в городе работало свыше тысячи крупных и средних предприятий» [2, c. 222]. При этом из Северо-Западного района примерно 95 % всей промышленной продукции давал Петербург, но это было возможным благодаря системе железных дорог, обеспечивающих как подвоз сырья, так и вывоз готовой продукции.
Именно Санкт-Петербург, присваивая часть прибавочного продукта, собираемого по всей империи, стал центром финансового капитала, проектной и управленческой деятельности и, наконец, развития транспортного машиностроения. «Уже в последней трети ХIХ в. четыре петербургских завода – Путиловский, Александровский, Невский, Нобеля, а также Петербургско-Варшавские железнодорожные мастерские производили паровозы. Первоначально подвижной состав был иностранный, но уже в 1845 г. на Александровском заводе был построен первый паровоз. С 1870 г. паровозы создают на Невском заводе. Транспортное машиностроение потребовало развития целого шлейфа смежных отраслей, включая металлургию» [10, c. 285]. В свою очередь это потребовало углубления географического разделения труда.
В дореволюционной экономической литературе неоднократно ставился вопрос об «искусственности» развития петербургской промышленности в условиях ее отдаленности от сырьевых баз внутри страны и отсутствия (как тогда считалось) местных ресурсов сырья для развития промышленности. Петербургская промышленность продолжала развиваться весьма быстрыми темпами, что отчасти было связано с вложениями иностранного капитала. Свыше 20 % всего иностранного капитала, вложенного в русскую промышленность, было сосредоточено в Петербурге и прибалтийских губерниях13.
В промышленном производстве города значительно выше, чем в других районах России, был удельный вес тяжелой и особенно металлообрабатывающей промышленности. В 1908 г. Петеpбyрг дал 33,6 % продукции русского машиностроения. В 1912 г. машиностроение давало 28,0 % всего валового выпуска петербургской промышленности, причем внутри машиностроения был развит ряд отраслей, выпускавших наукоемкую продукцию14. Особенно высока была локализация, связанная с железнодорожным машиностроением. Поставим вопрос: «Почему локализация высокотехнологичной продукции и экспортно ориентированных производств произошла именно на Северо-Западе, прежде всего в Санкт-Петербурге? Дело в высоком (столичном) административном статусе?». С точки зрения авторов, административнополитическая рента – фактор важный, но не определяющий. Более значим транспортный фактор: именно он определял результаты регионального развития. Экономическое лидерство Северо-Запада оказалось возможным благодаря опоре на ресурсы Центральной России, Урала и Сибири. Массовые грузоперевозки сегодня, как и 120 лет назад, возможны только при опоре на сельскохозяйственные и промышленные районы.
Итак, примерно в 1910–1914 гг. консерватизм «размещенческой» политики был преодолен. В 1912 г., как и в 1897 г., центрами машиностроения являлись Центрально-промышленный, Северо-Западный экономический районы и Украина. Аналогичные процессы прослеживаются и по ряду других отраслей15. Обозначилась еще одна тенденция, существующая и в сегодняшней России, – вертикальная интеграция по производственному признаку. Синдикаты участвовали в строительстве дорог к местам добычи сырья, руководствуясь своими интересами, коммерческими, а не государственными.
Перейдем к рассмотрению вопроса о роли транспортного фактора в экономической истории российского Северо-Запада. Укажем на то, что в Российской империи существовали те же вопросы государствен- ной межведомственной и территориальной конкуренции, что и в настоящее время. Эти проблемы обсуждались не только на Высочайшем или министерском уровне, но и органами местного самоуправления. Естественно, чем мощнее местное самоуправление, тем больше у него возможностей лоббирования. Наиболее эффективные рычаги влияния нашла Городская дума Санкт-Петербурга. Признавая, что доходы местного самоуправления собираются с предприятий внешнеэкономического комплекса, а также собственно транспортников, Дума начала вмешиваться в деятельность имперских министерств и ведомств. Однако непосредственно перед Первой мировой войной региональная (в основном промышленная и транспортная) политика в России начала формироваться [7, c. 183]. В результате Российская империя состоялась как современное государство на базе железнодорожного транспорта, который к концу ХIХ в. являлся наиболее эффективной и современной отраслью.
В 1895 г. Городская дума Санкт-Петербурга создала Комиссию о северных железных и водных путях. Обсуждались два вопроса: выход к Баренцеву и Белому морям. «Сооружение железной дороги к незамерзающим гаваням Кольского полуострова и соединение их с Санкт-Петербургом стало особенно актуальным. Император Александр III обратил внимание на представленный в 1889 г. доклад Олонецкого вице-губернатора Конкевича, предполагавший устройство военно-морской базы в одной из незамерзающих гаваней Мурманского побережья Баренцева моря и возведения к ней железной дороги» [1, c. 140]. Городская дума увидела, что при соединении с урало-сибирскими дорогами будущий порт Николаев-на-Мурмане может стать еще одним конкурентом Санкт-Петербурга.
Лоббируя интересы родного города, Комиссия в 1895 г. представила доклад о целесообразности строительства Санкт-Петербург – Вятской железной дороги. Это улучшало географическое положение Архангельска и его порта, но ухудшало экономические возможности Санкт-Петербурга. Петербургские политики были недовольны, поэтому Комиссия дала ответ: «Петербург должен быть, согласно завету Петра Великого, главным первоклассным портом Империи, и поэтому при настоящем состоянии дел, Вятку следовало бы соединить не с Котласом, а с Вологдой, а Вологду – с Санкт-Петербургом. При этом начальный участок Санкт-Петербургско – Вятской железной дороги должен был стать одновременно составной частью будущей Санкт-Петербургско – Уральской и Санкт-Петербург – Мурманской линий»16.
6 мая 1901 г. постройка Санкт-Петербург – Вятской дороги была разрешена. Городская дума одобрила строительство железной дороги, соединяющей Мурман и Санкт-Петербург, видя в этом не конкуренцию, а дополнительные факторы развития для города.
Для нас важно, что «Санкт-Петербург был лишен ближайшей экономической периферии… но при этом был расположен на пересечении многих искусственных водных систем, железнодорожных путей и т. д.» [6, с. 84]. В. В. Покшишевский отмечал: «До революции город находился в экономически крайне слабо развитом крае, служившем лишь “транзитной средой” для питания нашего города теми видами сырья, которые он не получал из-за границы; в советское же время Ленинград оказался расположенным в быстро развивающемся, в частности промышленно развивающемся, крае»17. Однако, обеспечив хозяйственные связи с остальной частью СССР, что является очевидным достижением, осталась проблема адекватных внешних связей.
Таможенный округ, который существовал на территории Петербурга и губернии, был доходнее среднего округа по стране [4, c. 55]. Однако таможенные сборы, формально собираемые в портовых городах, объективно отражали результативность всей экономики империи и основывались на работе железных дорог, концентрически расходящихся от столицы империи.
В этом контексте обращает на себя внимание уникальная работа, изданная в 1922 г. в Петрограде. По жанру это была докладная записка Петроградского Совета Всероссийскому центральному исполнительному комитету, в которой автор, экономист и публицист Г. Циперович, говорил, что перспективы социально-экономического развития России предопределяются общей ситуацией на Балтике и успешности выполнения Санкт-Петербургом и всем Северо-Западом транзитных функций [5]. Развитие города и прилегающего региона основывалось на управляемом развитии железных дорог. Это обстоятельство следует учитывать. При этом железные дороги одного региона могут фактически быть локомотивами развития всей страны. Именно этот потенциал получил российский Северо-Запад в конце XIX – начале XX в.
Заключение
С нашей точки зрения, гипотеза исследования в целом подтвердилась. Пространственные масштабы России действительно создают возможности присвоения результатов экономической деятельности на значительном удалении от мест непосредственного осуществления экономической деятельности. Рента географического положения, полученная на Северо-Западе, в дальнейшем перераспределяется и способствует экономическому развитию на значительном удалении от Балтийского моря. Уникальный опыт Российской империи является таковым для современной России именно потому, что рыночная экономика с высокой и трудно просчитываемой долей государственного участия вернулась в хозяйственную практику. Применимость этого опыта определяется общим сходством хозяйственных и в ряде случаев управленческих практик между Российской империей конца XIX – начала XX в. и современной Рос- сийской Федерацией. При этом роль Санкт-Петербурга XIX и XXI вв. в экономическом развитии России оказалась столь же устойчивой, несмотря на утрату столичного статуса.
Список литературы Некоторые вопросы оценки роли транспортного фактора в экономической истории северо-запада России конца XIX - начала XX в
- Голубев А. А. Исторические вехи принятия решения о строительстве Мурманской железной дороги // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. -2010. - Т. 4. - № 1. - С. 137-147.
- Летюхин И. Д. Промышленность Санкт-Петербурга: история, проблемы и перспективы развития // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия : Экономика и экологический менеджмент. -2014. - № 4. - С. 221-231.
- Ли Ке. Допустимые диспропорции и системная оптимизация региональной экономики Китая // Проблемы теории и практики управления. - 2002. - № 1. - С. 63-67.
- Манько А. Россия на мировых рынках. Взгляд в прошлое // Внешняя торговля. - 1998. - № 10-12. - С. 55-57.
- Межевич Н. М. К вопросу о ключевых историко-географических характеристиках Ленинградской области // Псковский регионологический журнал. - 2014. - № 19. - С. 74-82.
- Межевич Н. М. Пространственное развитие санкт-петербургской агломерации: некоторые исторические параллели современных экономических практик // Вестник Коми Республиканской академии государственной службы и управления. Серия : Теория и практика управления. - 2015. - № 15. - С. 82-86.
- Межевич Н. М., Черняк С. В. Развитие транспортной инфраструктуры - механизм реконструкции экономического пространства на примере Северо-Запада: национальные и международные акценты // Экономика и предпринимательство. - 2013. - № 7 (36). - С. 183-187.
- Межевич Н. М., Шамахов В. А. Современность и традиция в российской геополитике (статья вторая) // Управленческое консультирование. - 2020. - № 2. - С. 10-15.
- Попов Г. Г. Роль иностранного капитала в модернизации России в эпоху великих реформ // Историко-экономические исследования. - 2015. - Т. 16. - № 3. - С. 579-596.
- Рыбаков Ф. Ф. Промышленность Санкт-Петербурга и вызовы XXI века // Региональная экономика. Теория и практика. - 2012. - № 11 (242). - С. 285-286.
- Хусаинов Ф. И. Формирование и развитие железных дорог в России в XIX веке: стимулы и институты // Бюллетень транспортной информации. - 2018. - № 8 (278). - С. 19-28.
- Hanson P. Russian Economic Policy and the Russian Economic System Stability versus Growth // Research Paper. Russia and Eurasia Programme. - 2019. - December.