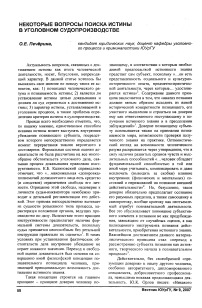Некоторые вопросы поиска истины в уголовном судопроизводстве
Автор: Печрина О.Е.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Статья в выпуске: 9 (81), 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/147149260
IDR: 147149260
Текст обзорной статьи Некоторые вопросы поиска истины в уголовном судопроизводстве
Актуальность вопросов, связанных с достижением истины как итога человеческой деятельности, носит, безусловно, непреходящий характер. В данной статье хотелось бы высказать свое мнение по поводу таких ее аспектов, как: 1) потенциал человеческого разума и познаваемость истины; 2) является ли установление истины целью доказывания и должен ли суд стремиться к достижению истины; 3) характер истины, устанавливаемой в уголовном процессе, а также проблема определения критерия истины в судопроизводстве.
Прежде всего необходимо отметить, что, по нашему мнению, единственным способом искания истины может выступать внутреннее убеждение познающего субъекта, посредством которого непосредственно определяется момент перерастания знания вероятного в достоверное. Формальная система оценки доказательств не была рассчитана на все многообразие обстоятельств уголовного дела, связывая процесс доказывания правилами инст-руктивности. К.Б. Калиновский справедливо отмечает, что «...максимальная «дозировка» полномочий должностного лица есть средство (и следствие) ограничения свободы его личности. Отрицание этой свободы, недоверие к личности судьи-инквизитора неизбежно приводит к детальной регламентации его действий. Этот признак непосредственно вытекает из сущности розыскного типа процесса, характеризуя положение органов, ведущих производство по делу. Вследствие этого принцип инструктивности предполагает наличие формальной системы доказательств, поскольку судья признается неспособным без детальной инструкции правильно их оценить»1. В таких условиях при установлении фактических обстоятельств дела внутреннее убеждение не играет никакого значения. Переход к свободной оценке доказательств был основан на совершенно иной философской концепции познавательного потенциала человека, признающей принципиальную возможность достижения истинного знания.
Такая концепция строится на главном принципе - принципе доверия человеку по знающему, в соответствии с которым необходимой предпосылкой истинности знания предстает сам субъект, поскольку «...он есть представленность социального и культурноисторического опыта, предметно-практической деятельности, через которые... удостоверяется истина»2. Содержание данного принципа заключается в том, что «анализ познания должен явным образом исходить из живой исторической конкретности познающего, его участного мышления и строиться на доверии ему как ответственного поступающему в получении истинного знания и в преодолении заблуждений»3. Доверие познающему субъекту основывается также на признании познаваемости мира, возможности проверки полученного знания на практике. Оптимистический взгляд на возможности человеческого разума раскрывается через утверждение, что в силу наличия развитых органов чувств и мыслительных способностей «...человек обладает фундаментальной способностью в той или иной мере учитывать, компенсировать и даже исключать (выводить за скобки) влияние внутренних (физических и ментальных) состояний и переживаний на познание внешней действительности»4. Но, безусловно, такое доверие обязательно предполагает осознание его разумных пределов, а также самооценку и самокритику, вообще критику как неотъемлемый атрибут познавательной деятельности. Все это обусловливает понимание субъективного элемента в познании не как предубеждения, зависящего от случайных оценок, а как полноценного инструмента познания действительности, приобретения истинного знания. Важнейшим достижением данного материалистического принципа стал «переход к рассмотрению субъекта познания как активного, творческого начала в познавательном процессе»5.
Действительно, без своеобразной «презумпции доверия» к опыту другого человека, особенно авторитетного, дипломированного специалиста, добросовестного профессионала, немыслима никакая продолжающаяся деятельность. Ю.К. Орлов пишет: «Никакого универсального алгоритма, пригодного для всех случаев доказывания, не существует и, по всей вероятности, вряд ли он когда-нибудь будет создан»6. Только полагание на логику, опыт, интуицию, здравый смысл, совесть, правосознание и, главное, основанное на них внутреннее убеждение правоприменителя может обеспечить приближение к познанию обстоятельств дела такими, какими они имели место в действительности. На «презумпции доверия» основывается все уголовно-процессуальное познание, а также принцип свободы оценки доказательств, в котором, по сути, раскрывается доверие законодателя познавательным возможностям правоприменителя.
Представляется, что потребность в доверии субъекту уголовно-процессуального познания свободно оценивать доказательства, принимать на этой основе властные решения, действовать по своему усмотрению в соответствии со своим убеждением, возникает у законодателя лишь тогда, когда в качестве главной цели уголовного процесса выступает достижение объективной истины по делу. «Оценка доказательств по внутреннему убеждению Вызвана и обусловлена задачей установления... истины»7. В противном случае неизбежен формализм и строгая регламентация значения того или иного доказательства для принятия процессуальных решений. Как писали В.Я. Дорохов и В.С. Николаев, «нельзя заранее указать, какие доказательства будут иметь значение при рассмотрении конкретного дела, если ставить задачу установления объективной, а не формальной истины»8. А вопрос определения значения доказательств должен решаться на основании доверия познавательному потенциалу соответствующего субъекта.
В уголовном процессе неисчерпаемой является дискуссия о характере достигаемой в процессе истины. Классически под абсолютной истиной понимают полное, исчерпывающее знание о предмете, а под относительной -неполное знание о том же предмете. Как представляется, любая истина содержит в себе определенные элементы заблуждения, которые со временем могут преодолеваться, вследствие чего знание становится полнее, глубже, истиннее. Поэтому, на наш взгляд, неверно категорически рассматривать достигаемую в ходе уголовного судопроизводства истину как исключительно относительную или абсолютную. Истина всегда представляет собой единство абсолютного и относительно- го, формируется в процессе преодоления заблуждений. «Относительная и абсолютная истина - стороны, моменты в познании объективной истины. Их нельзя рассматривать изолированно. Каждая относительная истина есть в то же время абсолютное знание и, наоборот, абсолютная истина всегда относительна»9. Определенные элементы заблуждения, на наш взгляд, можно рассматривать в качестве неизбежных «издержек» процесса познания истины. В этой связи нам представляется достойной внимания точка зрения, в соответствии с которой «в вопросе о характере истины в судебном процессе практически важно не то, является ли она абсолютной или относительной, а то, что она является объективной истиной, то есть представляет собой соответствие выводов суда, содержащихся в приговоре или решении, действительности»10. Ее разделял и А.И. Трусов, который писал, что «постановка вопроса в форме «либо-либо» должна быть исключена, ибо не существует истин, которые были бы только абсолютны либо только относительны»11.
Представляется, что любая приобретаемая истина в силу своей относительности может быть подвергнута сомнению, отброшена, если она противоречит новым фактам. Но тем не менее познающий человек каждый раз продвигается вперед, углубляя и уточняя свои знания. Также необходимо понимать следующее: «...для того, чтобы было возможно судить об истине с позиций философских понятий абсолютной и относительной истины, мы должны учитывать практические задачи, которые ставятся... перед органами правосудия, и те условия, в которых протекает судебная деятельность»12. При таком подходе, на наш взгляд, снимаются неоправданные ожидания полного совпадения или полного несовпадения произошедшего события и наших знаний о нем, и соответственно познавательная деятельность субъекта и доверие к нему не оцениваются эталоном «абсолютной истины». Вот почему, как представляется, философско-юридическая дискуссия о характере истины, устанавливаемой в ходе уголовного судопроизводства, не должна ставить под сомнение возможность достижения истины в процессе. Устанавливаемая судом истина объективна, поскольку: а) суд устанавливает фактические обстоятельства дела такими, как это было на самом деле; б) достигнутое знание носит достоверный характер, поскольку в его основе лежит исследование и оценка до- казательств. Причем «будучи объективной по своему содержанию, объективная истина субъективна по своей форме»13.
Рассматривая достижение истины в качестве главной цели уголовно-процессуальной деятельности, мы также не можем не затронуть проблему критерия оценки доказательств и критерия определения истинности или ложности полученного знания. Критерий позволяет познающему субъекту сопоставить полученные знания с реальным миром. В целом на этот счет существует три основных точки зрения. В соответствии с первой таким критерием следует считать единственно внутреннее убеждение. В этой связи уже стала классически цитируемой фраза из работы А.Я. Вышинского: «Единственным мерилом доказательств новейшая теория справедливо признает не свойства этих доказательств, а единственно степень судейского убеждения, ими вызываемого»14. На какой-то период времени такая точка зрения была основной. Однако в дальнейшем она была подвергнута критике в связи с тем, что, по сути, подразумевала под собой «ничем не ограниченный субъективизм»15 и противоречила положениям диалектического материализма о критерии истины в познании.
М.С. Строговичу принадлежит заслуга теоретического обоснования такого критерия истины, как практика, под которой следует понимать всю «совокупность практической деятельности людей в прошлом и настоящем времени» . В дальнейшем такую точку зрения поддерживало и развивало большинство ученых-процессуалистов17. Однако необходимо отметить, что, отрицая внутреннее убеждение как критерий истины, М.С. Строгович (а также и другие авторы, например, Я.О. Мо-товиловкер18) все же придерживался мнения, что убеждение сохраняет значение критерия в ходе оценки доказательств. Он писал, что «нельзя смешивать критерий оценки доказательств, при помощи которой устанавливается истина, и критерий истинности выводов..., получаемых при помощи доказательств»19. Таким образом, предлагалось разграничивать деятельность по установлению истины от деятельности по оценке доказательств, различать их критерии. Подразумевая под критерием способ поиска истины, М.С. Строгович считал, что строить познавательную деятельность нужно таким образом, чтобы поиск истины осуществлялся только на основе внутреннего убеждения. Когда же знания будут накопле ны, выводы сформулированы, тогда следует применить критерий практики, на основании которого можно определить истинность имеющихся знаний и выводов20. Поэтому делался вывод, что критерий практики находит свое применение лишь в ходе определения истинности результатов познания. Такой подход к решению вопроса критерия оценки доказательств, а также истинности знаний представляется не совсем верным, поскольку, во-первых, не учитывается тот факт, что любое убеждение должно основываться на достоверности, а она, как известно, достигается только путем осуществления практической деятельности по доказыванию, и, во-вторых, оценка доказательств имманентна процессу установления истины, а это говорит о том, что необходимо искать единый критерий.
Безусловно, проблема критерия чрезвычайно сложна, так как перед процессуалистами продолжает стоять задача его отыскания с учетом специфики объекта познания, а также способа познания - убеждения, который носит объективно-субъективный характер. При этом необходимо учитывать, что в сфере судопроизводства критерий практики выступает в специфической форме. Как писал А.А. Эйс-ман, «здесь непосредственная, прямая проверка практикой возможна лишь в отношении частных эпизодов, отдельных выводов и утверждений. Следовательно, в этой области критерий истины в основном выступает опосредствованно, как обобщенная историческая практика, подтверждающая адекватность мышления вообще, а не данной отдельной мысли данного отдельного субъекта»21. В материалистической гносеологии практика как критерий истины характеризуется повторяемостью, воспроизводимостью тех или иных процессов, явлений, событий. Совсем непросто применить данный критерий к познанию совершенного в прошлом преступного события. Если бы для уголовно-процессуального познания существовал непосредственный критерий истинности, заключающийся в прямой экспериментальной проверке имеющегося знания (естественно, кроме воспроизведения самого преступления!), то он был бы уже четко указан в законе, а необходимость во внутреннем убеждении отпала бы. Философ Л.А. Микешина вообще считает, что «в такой сфере, как логико-математическое знание, а также различных областях гуманитарного знания... практика в ее материально-предметной предметной форме не может служить непосредственным критерием истины»22.
Поэтому здесь мы хотели бы обратиться к третьей точке зрения, в которой отражается попытка аккумулирования первых двух подходов. Она заключается в том, что критерием истины выступает как практика, так и внутреннее убеждение (будучи одним из ее проявлений), причем последнее «...функционирует лишь там, где отсутствует прямой критерий практики, как его эквивалент, заменитель»23. В уголовно-процессуальном познании практика возможна в основном только в опосредованном виде. В широком смысле она включает в себя всю общественную конкретноисторическую практику в различных сферах человеческой деятельности. Среди конкретных процессуальных форм ее проявления выделяют коллективную практику правоохранительных органов и суда; использование достижений науки, а также применение научнотехнических средств доказывания. «Практика как критерий истины проявляется в виде применения в процессе исследования научных данных, опытных положений, выработанных жизнью, в виде использования всего опыта практики расследования и разрешения уголовных дел»24. Помимо этого необходимо также учитывать, что «нормы доказательственного права служат в судопроизводстве одним из важнейших средств приведения опыта к общественному стандарту»25. Поэтому следует согласиться с А.А. Тарасовым, который считает, что общественная историческая практика в концентрированном виде выражается и в процессуальной форме доказывания, чье соблюдение способствует достижению истины и защите прав граждан26.
Представляется, что среди всей совокупности знаний, на которых основывается внутреннее убеждение, всегда присутствует определенный объем знаний, которые составляют как личный, так и коллективный, как профессиональный, так и житейский опыт того или иного субъекта познания. Не только практика оказывает большое влияние на процесс формирования убеждений, но и соответствующие убеждения воздействуют на практику, т.е. происходит их взаимодействие и взаимное влияние друг на друга. Этот факт позволяет Ю.К. Орлову сделать следующий вывод, который мы всецело разделяем, о том, что внутреннее убеждение «служит одним из косвенных проявлений критерия практики»27. Поэтому можно сказать, что внутреннее убежде- ние, будучи одним из проявлений практики, является критерием истины. Конечно, нельзя не признать, что такой критерий носит относительный характер в силу того, что убеждение - объективно-субъективная категория. Как отмечает Ю.В. Кореневский, «искомая истина известна нам только в виде наших же представлений, основанных, конечно.., на доказательствах, полученных в результате практической деятельности, но все же в конечном итоге наших представлений»28. Однако это учитывается законодателем посредством установления определенной иерархии субъектов доказывания, инстанционного порядка движения дела, коллегиальности рассмотрения уголовных дел, что призвано служить гарантиями эффективности данного критерия.
Таким образом, считая достижение истины в качестве основной цели уголовного судопроизводства, тем не менее мы признаем, что полностью постичь объективную истину по каждому совершенному преступлению в целом ряде случаев не представляется возможным, и суд все же бывает вынужден довольствоваться истиной формальной. Но от этого нельзя отказываться от идеи истины как цели доказывания, как условия деятельности участников процесса, а также как неотъемлемой части идеологии уголовного процесса. В противном случае это будет означать, что привлечение лица к уголовной ответственности возможно на основе неполной уверенности суда в виновности данного лица в совершении преступления, а, значит, категория «внутреннее убеждение» потеряет свое значение. При этом сама идея справедливого правосудия сводится «на нет», как и доверие суду выполнения нравственно-гуманитарной миссии по разрешению уголовно-правовых конфликтов.
Выслушав доводы состязающихся сторон, суд обязан провозгласить истиной не обязательно то, как стороны ее себе представляют, а то, что действительно ею является. На наш взгляд, устремленность субъекта познания к истине - это своего рода «презумпция», которая призвана направлять ход познавательной деятельности, обеспечивать выполнение целей уголовного процесса, а также, что немаловажно, способствовать реализации воспитательной функции судопроизводства, сохранению нравственных ориентиров правосудия. При этом наряду с опосредованной практикой критерием оценки доказательств, а также получаемого на их основе истинного знания является внутреннее убеждение, как косвенное проявление всей общественной конкретно-исторической практики и уголовно-процессуальной в частности.
-
1 Калиновский К.Б. Законность и типы уголовного процесса: дис. ... канд. юрид. наук. - СПб., 1999. - С. 167.
-
2 Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. - М., 2002. - С. 168-169.
-
3 Там же.-С. 159.
4Там же.-С. 172.
-
5 Каримов Д.Б. Диалектика объективного и субъективного в методе восхождения от абстрактного к конкретному. -Ташкент, 1988. - С. 84.
-
6 Орлов Ю.К. Внутреннее убеждение при оценке доказательств (правовые аспекты) // Вопросы борьбы с преступностью. - М., 1981. - Вып. 35. - С. 57.
-
7 Резниченко И.М. Новый этап в развитии учения о внутреннем судейском убеждении И Ученые записки Дальневосточного гос. ун-та. - Владивосток, 1967. -Вып. 19.-С. 73.
-
8 Дорохов В.Я., Николаев В.С. Обоснованность приговора в советском уголовном процессе. - М., 1959. -С. 45.
-
9 Лузгин И.М. Расследование как процесс познания: учебное пособие. -М., 1969.-С. 159.
-
10 Осипов Ю.К. К вопросу об объективной истине в судебном процессе // Правоведение. - 1960. - № 2. -С. 129.
-
11 Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств (краткий очерк). - М., 1960. — С. 116. См. также: Дорохов В.Я., Николаев В.С. Указ. соч. - С. 72-73.
-
12 Дорохов В.Я., Николаев В.С. Указ. соч. - С. 68.
-
13 Зинатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное доказывание. - Ижевск, 1993. - С. 53.
-
14 Вышинский А.Я. Курс уголовного процесса. - М., 1927.-С. 103. '
-
15 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. -М., 2001. -С. 174. .
-
16 Философский словарь / под. ред. М.М. Розенталя, П.Ф. Юдина. - М.( 1963. - С. 449.
-
17 Например: Трусов А.И. Указ. соч. - С. 91-115; Арсеньев В.Д. Основы теории доказательств в советском уголовном процессе. - Иркутск, 1970. - С. 137-170; Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. - М., 1966 - С. 65-96; Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв. ред. Н.В. Жогин - М., 1973. - С. 112-142.
-
18 Мотовиловкер Я.О. Установление истины в советском уголовном процессе. - Ярославль, 1974. - С. 61.
-
19 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: в 2т.-М., 1968.-Т. 1.-С. 339.
-
20 Там же.
-
21 Эйсман А.А. Соотношение истины и достоверности в уголовном процессе И Советское государство и право. -1966.-№ 6,- С. 92-93.
-
22 Микешина Л.А. Современная проблематизация вечной темы // Философские науки. - 1990. - Ns 10. - С. 78.
-
23 Орлов ЮЖ. Указ. соч. - С. 60.
-
24 Дорохов В.Я., Николаев В.С. Указ. соч. - С. 46.
-
25 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Под ред. Б.А. Золотухина. - М., 2001. - С. 61.
-
26 Тарасов А.А. Еще раз об истине в уголовном судопроизводстве // Новый Уголовно-процессуальный кодекс России в действии: материалы круглого стола. -М„ 2004.-С. 77-78.
-
27 Орлов Ю.К. У каз. соч. - С. 61.
-
28 Кореневский Ю.В. Актуальные проблемы доказывания в уголовном процессе // Государство и право. -1999.-№ 2.-С. 60.
Список литературы Некоторые вопросы поиска истины в уголовном судопроизводстве
- Калиновский К.Б. Законность и типы уголовного процесса: дис.... канд. юрид. наук. -СПб., 1999. -С. 167.
- Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. -М., 2002. -С. 168-169.
- Там же.-С. 159.
- Там же.-С. 172.
- Каримов Д.Б. Диалектика объективного и субъективного в методе восхождения от абстрактного к конкретному. -Ташкент, 1988. -С. 84.
- Орлов Ю.К. Внутреннее убеждение при оценке доказательств (правовые аспекты)//Вопросы борьбы с преступностью. -М., 1981. -Вып. 35. -С. 57.
- Резниченко И.М. Новый этап в развитии учения о внутреннем судейском убеждении//Ученые записки Дальневосточного гос. ун-та. -Владивосток, 1967. -Вып. 19.-С. 73.
- Дорохов В.Я., Николаев B.C. Обоснованность приговора в советском уголовном процессе. -М., 1959. -С. 45.
- Лузгин И.М. Расследование как процесс познания: учебное пособие. -М., 1969.-С. 159.
- Осипов Ю.К. К вопросу об объективной истине в судебном процессе//Правоведение. -1960. -№ 2. -С. 129.
- Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств (краткий очерк). -М., 1960. -С. 116.
- Дорохов В.Я., Николаев B.C. Указ. соч. -С. 72-73.
- Дорохов В.Я., Николаев B.C. Указ. соч. -С. 68.
- Зинатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное доказывание. -Ижевск, 1993. -С. 53.
- Вышинский А.Я. Курс уголовного процесса. -М., 1927.-С. 103.
- Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. -М., 2001. -С. 174. 1
- Философский словарь/под. ред. М.М. Розенталя,П.Ф. Юдина. -М., 1963. -С. 449.
- Трусов А.И. Указ. соч. -С. 91-115;
- Арсеньев В.Д. Основы теории доказательств в советском уголовном процессе. -Иркутск, 1970. -С. 137-170;
- Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. -М., 1966 -С. 65-96;
- Теория доказательств в советском уголовном процессе/Отв. ред. Н.В. Жогин -М., 1973. -С. 112-142.
- Мотовиловкер Я.О. Установление истины в советском уголовном процессе. -Ярославль, 1974. -С. 61.
- Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса:в 2 т.-М., 1968.-Т. 1.-С.339.
- Там же.
- Эйсман А.А. Соотношение истины и достоверности в уголовном процессе//Советское государство и право. -1966.-№6.-С. 92-93.
- Микешина Л.А. Современная проблематизация вечной темы//Философские науки. -1990. -№ 10. -С. 78.
- Орлов Ю.К. Указ. соч. -С. 60.
- Дорохов В.Я., Николаев B.C. Указ. соч. -С. 46.
- Концепция судебной реформы в Российской Федерации/Под ред. Б.А. Золотухина. -М.: 2001. -С. 61.
- Тарасов А.А. Еще раз об истине в уголовном судопроизводстве//Новый Уголовно-процессуальный кодекс России в действии: материалы круглого стола. -М.: 2004.-С. 77-78.
- Орлов Ю.К. Указ. соч. -С. 61.
- Кореневский Ю.В. Актуальные проблемы доказывания в уголовном процессе//Государство и право. -1999.-№2.-С. 60.