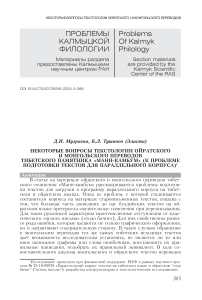Некоторые вопросы текстологии ойратского и монгольского переводов тибетского памятника "Мани-Камбум" (к проблеме подготовки текстов для параллельного корпуса)
Автор: Музраева Д.Н., Тушинов Б.Л.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 3 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье на материале ойратского и монгольского переводов тибетского сочинения «Мани-камбум» рассматриваются проблемы подготовки текстов для загрузки в программу параллельного корпуса на тибетском и ойратском языках. Одна из проблем, с которой сталкиваются составители корпуса на материале старописьменных текстов, связана с тем, что большая часть дошедших до нас буддийских текстов на ойратском языке претерпела значительные изменения при переписывании. Для таких рукописей характерны многочисленные отступления от классического «ясного письма» («тодо бичиг»). Для них свойственны разного рода ошибки, которые касаются не только графического оформления, но и затрагивают содержательную сторону. В таких случаях обращение к монгольским переводам тех же самых тибетских исходных текстов дает возможность исследователям установить, не является ли то или иное написание графемы или слова ошибочным, восстановить их правильные написания, подобрать их правильный эквивалент. В ходе сопоставительного анализа монгольского и ойратского текстов переводов сочинения «Мани-камбум» затронут вопрос об их принадлежности к одной из двух разновидностей перевода - смысловому или дословному. Сопоставительный текстологический анализ двух переводов на материале ряда глав 1-го раздела «Мани-камбума» показал, что оба перевода основываются на принципах дословного перевода, которому следовал Зая-пандита. Объяснением пропусков некоторых строк в монгольском ксилографе, а также отступлений от тибетского текста может послужить использование иного списка или редакции тибетского текста, а также недочеты в работе переписчиков, готовивших печатное издание.
Переводная литература, зая-пандита намкай джамцо (xvii в.), «мани-камбум», ойратский и монгольский переводы, текстологический анализ, параллельный двуязычный корпус
Короткий адрес: https://sciup.org/149146479
IDR: 149146479
Текст научной статьи Некоторые вопросы текстологии ойратского и монгольского переводов тибетского памятника "Мани-Камбум" (к проблеме подготовки текстов для параллельного корпуса)
Введение. О монгольском и ойратском п ереводах сочинения «Мани-камбум»
Творческое наследие ойратского просветителя XVII в. Зая-пандиты Намкай Джамцо нашло широкое освещение в трудах по буддийской переводной литературе, созданной на монгольском и ойратском языках. Одним из сочинений, выступавших объектом перевода, является сочинение «Мани-камбум». Согласно колофону ксилографического издания «Мани-камбума» на монгольском языке, это сочинение перевел сам За-я-пандита. В послесловии к разделу XI отмечается, что перевод «Мани-камбума» осуществлялся Зая-пандитой «в течение двух лет, начиная с года женщины-воды-овцы (1643) до года мужчины-железа-обезьяны (1644)» [MKM, раздел XI, л. 9б—10а]. Из сказанного следует, что данное сочинение было переведено до составления им новой письменности «тодо бичиг» («ясного письмо») в 1648 г.
Монгольский «Мани-камбум» в переводе Зая-пандиты был включен в состав монголоязычного ксилографического издания самого крупного корпуса текстов литературы по праджняпарамите («запредельной мудрости») под названием «Юм ченмо» ( ‘ Великая матерь ’ -распространенное тибетское название «Праджняпарамиты в сто тысяч шлок»; санс-кр. шатасахасрика праджняпарамита). Ксилограф «Юм ченмо» хранится в частной коллекции семьи Васильевых в селе Хурамша Иволгинского района Республики Бурятия. Возможность ознакомиться со скан-копия-ми текста «Мани-камбума» была любезно предоставлена Аяном Сотниковым, ламой Хужирского дацана Тункинского района Бурятии, за что авторы выражают ему большую признательность.
Что касается авторства ойратского перевода, то, возможно, на это может указывать колофон к заключительной части всего собрания текстов «Мани-камбума», которым мы в настоящее время не располагаем. Мы можем отметить, что в послесловии к 1-й части «Мани-камбума» имя переводчика не упоминается. Примечательно, что в описании ойратского текста «Мани-камбума» из собрания библиотеки Восточного факультета СПбГУ, составленном В.Л. Успенским, имя автора-переводчика не указывается [Uspensky 2001, 252—253]. На наш взгляд, авторство данного перевода на ойратский язык может принадлежать Зая-пандите. Для более точного установления имени переводчика требуется детальное текстологическое исследование, что еще предстоит осуществить.
Привлечение монгольских переводов тибетских сочинений в работе по подготовке ойратских текстов для параллельного корпуса
На первый взгляд может показаться несколько неожиданной такая постановка вопроса — о соотношении двух разновидностей переводов, монгольского и ойратского, являющихся переводами одного и того же тибетского сочинения. Ведь каждый из таких переводов выполнялся определенным автором, как правило, просвещенным ламой, жившим и творившим в XVI—XVIII вв. и в более поздние периоды. Каждый из них придерживался определенного набора предписаний относительно того, как следует переводить буддийские тексты на свой родной язык. Но в случае, когда мы имеем дело с ойратскими списками переводов с ти- бетского, представляющими собой более поздние копии, выполненные разными переписчиками в разные периоды, для таких рукописей характерны многочисленные отступления от классического «ясного письма» («тодо бичиг»). Для них свойственны разного рода ошибки, начиная с неправильного написания тех или иных графем, отход от классической грамматики письменного ойратского языка в пользу разговорной речи и проч. В таких случаях обращение к монгольским переводам тех же самых тибетских исходных текстов дает возможность исследователям установить, не является ли то или иное написание графемы или слова ошибочным, восстановить их правильные написания, подобрать их правильный эквивалент и т.д.
Сопоставление монгольского и ойратского текстов переводов сочинения «Мани-камбум» дает возможность решить целый ряд из упомянутых выше проблем, с которыми столкнулись исполнители проекта создания параллельного корпуса на этапе составления транслитерации ойратского текста [Музраева, Манджиева (Чушкаева) 2023]. Так, было установлено, что в ойратской рукописи не редки написания лишних графем как это видно на таких примерах, как orodb вместо ordu , bolo y on [MKO, раздел I, л. 4a: 16—17] вместо bol Y on и т.д. (в этих словах лишние графемы выделены подчеркиванием). Слово alidon [MKO, раздел I, л. 11a: 29] — это искаженное ayiladun ‘зная, ведая ’ , слово ozon правильнее было бы оформить как UzUn ‘увидев ’ . Числительное ‘ сорок пять ’ передано как tUcUyin taban [MKO, раздел I, л. 11a: 12—13], что заметно отличается от классического написания docin tabun . В словосочетании dorbon zoq [MKO, раздел I, л. 11b: 26] второе слово это, скорее всего, zUq , и тогда оно может быть переведено как ‘ четыре направления (стороны света) ’ . В рукописи можно встретить ошибочное слитное написание слов, причем эти словосочетания не обязательно являются заимствованиями из тибетского или санскрита. Из этой же серии ошибок можно указать на неверное разделение на письме отдельных слов в словосочетаниях: вместо ger c ine-ne [MKO, раздел I, л. 14a: 3] в транслитерации следует писать ger c i ene ‘этот свидетель ’ .
Таким образом, обращение к тексту монгольского перевода сочинения «Мани-камбум» при составлении транслитерации ойратского текста с целью последующей его загрузки в программу параллельного тибетско-ойратского корпуса значительно облегчает установление правильных написаний графем и слов, позволяет определить их значение, установить более правильное их оформление, что важно для последующей сопоставительной работы. Надо признать, что сходные моменты мы обнаруживаем и в других текстах на ойратском языке.
К сравнительному изучению ойратского и монгольского переводов тибетского сочинения «Мани-камбум»
Первоначально задавшись целью устранить ошибки, уточнить все сложные, неясные места в рукописи ойратского перевода, для достижения которой представилась возможность привлечь к сравнению текст ксилографического издания на монгольском языке, мы не могли не сравнить хотя бы на ряде фрагментов особенности двух переводов тибетского «Мани-камбума». При этом первый момент, 388
на который следует обратить внимание, это определение принципов перевода, установление их принадлежности к двум разновидностям перевода — смысловому или дословному. Второй момент, заслуживающий внимания и оценки, касается вопроса, в какой степени тексты переводов следуют тексту первоисточника на тибетском языке. Характерно, что в обоих текстах мы находим фрагменты, которые переведены предельно одинаково. Это можно проследить на ряде примеров.
Так, в 4-й главе раздела I Будда Амитабха произносит слова о священной мантре Бодхисаттвы Авалокитешвары («Ом ма ни пад ме хум»), которая создана специально ради всех живых существ, и главное назначение шести слогов, из которых она состоит, сводится к тому, чтобы «закрыть дверь, ведущую к новым перерождениям живых существ» [MKM, раздел I, л. 7a; MKO, раздел I, л. 8а]. Примечательно, что строки в обоих переводах практически одинаково характеризуют шестислоговую мантру, но в монгольском переводе речь идет о том, чтобы «закрыть опасность (или положить конец опасности) блужданий для шести видов живых существ» [MKM, раздел I, л. 7а]. Под блужданиями (или скитаниями), о которых идет речь в этой фразе, имеется в виду пребывание в сансаре — круговороте перерождений. Как известно, в буддизме прерывание цепи новых перерождений, достижение просветления является одной из основных религиозных целей буддистов [Торчинов 2000, 51; Андросов 2011, 127—128].
Далее мы приводим характеристику каждого слога мантры, которая в обоих рассматриваемых переводах практически аналогично передана следующим образом:
«Ом ма ни пад ме хум», слогом «ом» из этой мантры закрывая дверь к перерождениям тенгрием (небожителем), слогом «ма» закрывая дверь к перерождениям асурами, слогом «ни» закрывая дверь к перерождениям в облике человека, слогом «пад» закрывая дверь к перерождениям животными, слогом «ме» закрывая дверь к перерождениям претами (или биридами), слогом «хум» закрыв дверь к перерождениям в аду, воистину, опустошают места [обитания] шести видов живых существ [MKM, раздел I, л. 7б; MKO, раздел I, л. 8а]. (Здесь и далее перевод с монгольского и ойратского наш. — Д.М. )
Следует отметить, что набор лексики, используемых грамматических форм в обоих фрагментах практически аналогичны. При этом классификация всех живых существ с подразделением на шесть видов (тенгриев, асуров, людей, прет, животных и обитателей ада) в том и другом переводах остается неизменной.
В качестве примера сходного перевода может послужить фрагмент 4-й главы, в которой Бодхисаттва Авалокитешвара в присутствии ста десяти миллионов будд во главе с Буддой Амитабхой, пробудив мысль об оказании пользы живым существам, произносит слова клятвы. В монгольском переводе она передана так:
Не оставляя ни одно живое существо, препровожу-ка к действительно совершенному бодхи. Но если это не осуществится, и во мне зародится мысль о желании собственного благоденствия и счастья, то пусть моя голова расколется на десять частей подобно верхушке арзаки! [MKM, раздел I, л. 6а].
Что касается ойратского перевода, то в целом он совпадает с монгольским, но в нем к слову «бодхи», имеющему значение «просветление», подобрано определение «в полной мере совершенное». В данном фрагменте представилось сложным подобрать эквивалент к словосочетанию «верхушка арзаки» (монг. arzaga-yin oki ) [MKM, раздел I, л. 6а: 2], которое в ойратском переводе передано как «голова арзаки» (ойр. ar-za Y ayin terguun ) [MKO, раздел I, л. 6a: 29]. Слово «арзака» — это производное от тибетского ardzaka ‘хлопок ’ [Рерих 1987, 243], привнесенное из санскрита. Не удивительно, что в монгольских словарях оно не представлено. В данном контексте под «верхушкой арзаки» имеется в виду плод хлопка — коробочка со створками, с многочисленными семенами, покрытыми волосками, которая в момент созревания растрескивается вдоль створок. В обоих переводах это слово осталось непереведенным.
Интересно проследить, какие события последовали за тем, как бодхисаттва произнес свою клятву. Из дальнейшего повествования, представленного в обоих рассматриваемых переводах, становится ясным, что Авалокитешвара нарушает ее, и прямым следствием этого является то, что его голова раскалывается на части. При этом в монгольском переводе это описывается следующим образом (ниже в переводе в квадратные скобки заключены слова, дополнительно вводимые нами для пояснения перевода):
Великий Милосердный вознесся на вершину горы Сумеру и когда взглянул проницательным взором, то увидел, что все осталось таким, как было прежде, что, сколько бы ни спасал с утроенной силой, разными средствами и из сострадания, численность людей прибавлялась и не сокращалась. Опечаленный, он пришел в отчаяние и подумал: «Ах, увы! Когда подумал, препровожу-ка [живых существ] в страну Будды, который обрел святость Сугаты (или «Спокойно шествующего», т.е. Будды), избавившегося от страданий, [я] нарушил клятву о том, что прежде пробудил мысль [об оказании пользы живым существам], и тогда голова раскололась на десять частей» [MKM, раздел I, л. 6b—7a].
В ойратском переводе, соответствующем процитированному выше фрагменту на монгольском языке, та часть, которая предваряет рассуждения бодхисаттвы, практически совпадает, но его последующие мысли приводятся в более развернутом виде:
«Ах, увы! С благоволения Сугаты место усмирения невообразимо, небесная страна невообразима, страна живых существ невообразима, — это оказалось правдой. Сколько бы я ни освобождал (букв. сколько бы ни выпускал), не стало меньше, так что не смогу, опустошив сансару, осуществить пользу ради живых существ. Определю-ка я свое местопребывания в стране Будды, который, обретя святость собственного смирения, освободился от страданий!» — когда я подумал так, произнесенная ранее клятва была нарушена, и голова раскололась на десять частей [MKO, раздел I, л. 7b].
Как видим из последней цитаты, в ней приводятся некоторые дополнительные сведения, более подробно передающие ход мыслей бодхисаттвы, которые и ознаменовали собой нарушение данной им клятвы. Таким образом, в приведенных примерах мы можем наблюдать совпадающие по форме и содержанию фрагменты двух переводов, но в то же время можем отметить в них заметные отличия, отмеченные нами подчеркиванием.
Сопоставительный текстологический анализ двух переводов показал, что в монгольском тексте могут быть незначительные пропуски. Приведем сначала фрагмент из раздела I ойратского перевода, 8-я глава которого описывает деяния Будды Шакьямуни, принимавшего различные воплощения с тем, чтобы оказать пользу на благо живых существ. Одним из его перерождений стал образ бодхисаттвы — сына тенгрия. Пребывая в райской стране Тушите, он на протяжении девяти лет проповедовал дхарму среди небожителей или, как сказано в ойратском переводе, «вращал колесо учения» (ойр. nomin kUrdU ergUUlUn ) [MKO, раздел I, л. 11a]. Но Будда, будучи сыном тенгрия, помнил о том, что ему предстоит спуститься на материк Дзамбутиб, чтобы донести свое учение людям. Когда он решил, что отправится на Дзамбутиб, чтобы «усмирить людей своей теорией» (ойр. onol-у ё г nomo Y odoxoxU ) [MKO, раздел I, л. 11a: 29—28], он задумался и задался вопросом:
«Каким же образом мне следует перенестись туда?!» — когда спросил, то превратился в слона, у которого было шесть бивней цвета серебра, туловище которого красноватого цвета, подобно огненному хрусталю, было окутано золотой сетью. В сиятельных просветах между облаками отправился алмазной поступью. И это был первый раз, когда он поменял свое рождение и [покинул] райскую область Туши- ту. Затем во второй раз продемонстрировал, как проник в утробу [Махамаи] [MKO, раздел I, л. 11a—11b].
Этот же момент нисхождения Будды, принявшего облик удивительного слона, в монгольском переводе передан с некоторым сокращением:
«Отправлюсь-ка усмирять учением (дхармой) людей западного Дзамбутиба!» — кода осознал это, при этом отправлюсь-ка подобно слону! Превратился в слона с шестью бивнями цвета серебра (букв. подобно цвету серебра), красноватое тело которого, подобное огненному хрусталю, было словно окутано золотой сетью. <_> Затем продемонстрировал, как во второй раз проник в утробу [Махамаи] [MKM, раздел I, л. 10б].
Как видно из последнего процитированного фрагмента монгольского перевода, в нем пропущены два предложения, присутствующие в ойратской рукописи. Для того чтобы понять, чем могут быть вызваны такие отличия в двух переводах, необходимо обращение к тексту тибетского сочинения, взятого за основу перевода. В нашем распоряжении имеется текст из состава канонического свода дэргэского издания. При сличении фрагмента ойратского перевода, в котором описывается момент нисхождения бодхисаттвы из небесной области на материк людей, строки перевода строго следуют тексту тибетского первоисточника, что лишний раз свидетельствует о том, что перевод основывается на принципах дословного перевода, которому следовал Зая-пандита. По поводу монгольского перевода мы также отмечаем в нем следование принципам дословного перевода. Объяснением пропусков некоторых строк в монгольском ксилографе, а также отступлений от тибетского текста могут послужить недочеты в работе переписчиков, готовивших печатное издание, которые могли пропустить строки либо не совсем верно прочитать слова оригинала. Так, например, в отрывке, где упоминается чудесный слон, в которого перевоплотился бодхисаттва, в монгольском тексте приводится такая фраза: tere c u j a Y an metu j or c iya ( ‘ при этом отправлюсь-ка подобно слону! ’ ), в которой j a Y an metu ( ‘ подобно слону ’ ) может быть неправильным прочтением слова ya Y un metu ( ‘ подобно чему? ’ ).
Таким образом, сопоставительное изучение монгольского и ойратского переводов тибетского памятника «Мани-камбум» дает исследователям уникальную возможность изучить творческую манеру автора-переводчика, стремившегося донести в неискаженном виде слово Будды до своих современников. Несмотря на то, что об ойратской рукописи можно сказать, что она неоднократно переписывалась, тем не менее, в ней прослеживается стремление переводчика следовать определенным строгим правилам, предельно близко к тексту передать тибетский оригинал, что позволяет расценивать этот труд как перевод Зая-пандиты Намкай Джамцо.
Выводы
Творческое наследие Зая-пандиты Намкая Джамцо является составной частью литературно-книжной традиции монгольских народов XVII— XVIII вв. Оно не потеряло своей значимости и в XXI в., поскольку вопросы перевода буддийских текстов с тибетского языка на монгольский и ойратский языки продолжают оставаться одним из актуальных направлений монголоведных исследований.
Сопоставительный анализ текстов двух переводов «Мани-камбума» с учетом приведенных в данной работе ошибочных написаний, встречающихся в ойратской рукописи, а также имеющихся лакун, встречающихся в монгольском ксилографе, позволяет высказать точку зрения, что причина может быть двух порядков: во-первых, возможно, что при выполнении переводов использовались разные списки, редакции одного и того же тибетского сочинения, во-вторых, следует отметить работу переписчиков текстов, и тех, кто подготавливал ксилографическое издание на монгольском языке, и тех, кто на протяжении всего периода времени, начиная с создания «ясного письма» вплоть до начала XX в., занимались переписыванием текста на «тодо бичиг» с целью его сохранения для последующих поколений.
Создание современного программного обеспечения, каковым является параллельный тибетско-ойратский корпус текстов, позволяет на материале большого объема разноплановых, разножанровых текстов из числа переведенных Зая-пандитой, его учениками и последователями изучить правила перевода, проследить историю сложения основных принципов и описать творческую манеру Зая-пандиты как переводчика. В этом плане тексты монгольского и ойратского переводов сочинения «Мани-камбум» являются для исследователей уникальным источником изучения всех перечисленных вопросов.
Список литературы Некоторые вопросы текстологии ойратского и монгольского переводов тибетского памятника "Мани-Камбум" (к проблеме подготовки текстов для параллельного корпуса)
- MKO - Mani-kambum. Часть 1. Рукопись на ойратском языке. Научная библиотека Восточного факультета СПбГУ. Шифр Calm D 22. 86 л.
- МКМ - Mani-kambum. Часть 1. 76 л. Ксилографическое издание "Юм ченмо" на монгольском языке. Коллекция Васильевых (с. Хурамша Иволгинского района Республики Бурятия).
- Андросов В.П. Индо-тибетский буддизм: энциклопедический словарь. М.: Ориенталия, 2011. 448 с.
- Музраева Д.Н., Манджиева (Чушкаева) З.И. Некоторые вопросы текстологического исследования ойратских и тибетских буддийских сочинений при создании двуязычного параллельного корпуса // Новый филологический вестник. 2023. № 4(67). С. 382-391. EDN: GZISCJ
- Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями. Вып. X. М.: Наука, ГРВЛ, 1987. 343 с.
- Торчинов Е.А. Введение в буддологию: курс лекций. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. 304 с.
- Uspensky V.L. Catalogue of the Mongolian Manuscripts and Xylographs in the St. Petersburg State University Library. Tokyo: ILCAA (University of Tokyo Press Production Centre), 2001. 529 p.