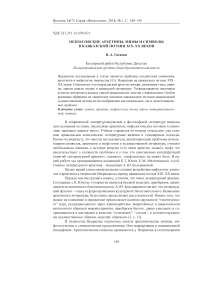Некрасовские архетипы, мифы и символы в кавказской поэзии ХIХ-ХХ веков
Автор: Гасанов Ибрагим Абакарович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования в статье является проблема воздействия символики, архетипов и мифологии творчества Н.А. Некрасова на кавказскую поэзию ХIХ- ХХ веков. Отмечается, что некрасовский архетип матери, символика тьмы, ворона, дороги нашли отклик в кавказской литературе. Устанавливаются некоторые аспекты интертекстуальных связей некрасовских текстов с кавказскими. Особое внимание обращено на творческое освоение кавказскими поэтами некрасовской художественной методологии изображения как социальных, так и экзистенциальных проблем.
Символ, архетип, мифологема, тьма, ворон, интертекстуальный, влияние
Короткий адрес: https://sciup.org/146278383
IDR: 146278383 | УДК: 321.351.12
Текст научной статьи Некрасовские архетипы, мифы и символы в кавказской поэзии ХIХ-ХХ веков
В современной литературоведческой и философской литературе вопросы использования поэтами, писателями архетипов, мифологических мотивов и символики занимают важное место. Учёные стараются по-новому осмыслить уже ставшие привычными классические литературные явления и стандартные подходы. Нужно подчеркнуть, что многие исследователи, анализирующие проблемы использования символов, архетипов и мифологии в художественной литературе, считают необходимым начинать с истории вопроса (что такое архетип, символ, миф), что свидетельствует о сложности проблемы и о том, что однозначных интерпретаций понятий «литературный архетип», «символ», «мифологема» не может быть. В нашей работе мы придерживаемся концепций К. Г. Юнга, Е. М. Мелетинского, а собственно литературного архетипа – концепции А. Ю. Большаковой.
Целью нашей статьи является анализ степени воздействия мифологии, символов и архетипов в творчестве Некрасова на лирику кавказских поэтов ХIХ–ХХ веков.
Прежде чем исследовать вопрос, уточним, что такое литературный архетип. Соглашаясь с К. Юнгом, что архетип является базовой моделью, праобразом, проявлением коллективного бессознательного, А. Ю. Большакова полагает, что литературный архетип – «одна из форм проявления культурного бессознательного. Выявление архетипов в литературе, безусловно, представляет ряд сложностей. Начав с того, что всякое их появление и проявление предполагает наличие двуединого “генетического” кода, складывающегося через взаимодействие закреплённых в национальном менталитете образцов мировосприятия, праобразов былого, давно ушедшего и сохранившегося в настоящем в качестве “отпечатков”, “следов”, и соответствующих им художественных образов, моделей, образцов» [1, с. 11].
В творчестве Некрасова отразились многие архетипические мотивы, мифологические и символические представления. Они маркированы и национальной спецификой. Архетипические символы проявляются у Некрасова в стихотворении
«Железная дорога» (царь-голод), есть образ Великой Матери (в нескольких стихотворениях и поэмах), орнитологические архетипические символы (Ворон), образы детей, образы-символы Тишины, Мороза, Дороги, архетип «родового гнезда» (стихотворение «Родина») и т. д.
Проблема творческого освоения Некрасовым архетипов, мифологии и символики недостаточно освещена и в некрасововедении, а что касается проблемы влияния некрасовской архетипики, символики и мифологии на кавказскую поэзию, то она вовсе не изучена, поэтому представляется актуальной сама постановка вопроса. Кроме того, изучение этой проблемы позволяет определить новые грани взаимодействия русской и кавказской литератур, способствует новому прочтению и осмыслению текстов и их интерпретации, установлению интертекстуальных связей.
Осмысление Некрасовым архетипов, мифологии и символов (как и у любой творческой личности) происходило как на уровне сознательного использования, так и бессознательного освоения.
В мировой литературе существует устойчивый набор архетипических символов, мифологии, используемый авторами (сознательно и бессознательно). Мы рассматриваем только те архетипические, мифологические мотивы и систему символов поэзии Некрасова, которые репрезентированы в кавказской поэзии.
Один из таких архетипических образов в лирике Некрасова – образ Матери. Некоторые аспекты архетипа Матери у Некрасова соотносятся с её символическим образом в волшебных сказках: она и покровительница, хранительница любви и очага, она же и жертва. Некрасовский образ матери предельно обобщён, несет архетипические черты Великой Матери, реалистические детали почти отсутствуют.
Известный некрасововед Н. Н. Скатов поэтому замечает: «Мать! У Некрасова это действительно такое все, что свело в себе личное и народное, национальное и всемирное, человеческое и божеское. Одно пояснение на совершенно хрестоматийном примере. Так, в поэме “Кому на Руси жить хорошо” не просто создан, как обычно пишут, образ матери (часть “Крестьянка”). Ничего там не понять, если не увидеть материнство, как чувство всеохватное, всепроникающее, людское и природное» [13, с. 5]. Н. Н. Скатов также считает, что в поэме образы матери-волчицы и матери-человека сливаются в один символ.
Образ матери у Некрасова связывается с идеей жертвенности и смирения: «Ты жребий свой несла в молчании рабы» [8, с. 55]. Мотив вечной жертвенности утверждается и Р. Гамзатовым (влияние некрасовских образов на его лирику несомненно) в стихотворении «Мама»: «Святой любви великая раба» [4, с. 5].
Архетип матери, склонившейся над колыбелью, характерен для лирики и Некрасова, и Гамзатова. Необходимо отметить, что архетип матери не подразумевает, по Юнгу, только личную мать, он имеет множество ипостасей. «Это не столько личная мать, от которой исходят все те, описанные в литературе, влияния на детскую психику, а как раз тот архетип, который, проецируясь на мать, придаёт ей некий мифологический фон и вместе с тем наделяет её авторитетом, даже нуминозно-стью» [15, с. 130].
Среди атрибутов архетипа матери Юнг выделяет и символ сада, а у Некрасова в одном из самых исповедальных произведений «Мать» лик матери мелькает именно в саду. Сад у Некрасова не столько пространство, сколько мифологема, активно поэтом используемая: «Глухая ночь! Иду поспешно в сад… / Ищу её, обнять желаю страстно… / Где ты? прими сыновний мой привет!» [11, с. 253]. В стихотворении «Баюшки-баю» образ матери сопрягается Некрасовым с Матерью Божьей.
Особенно частотны в поэзии Некрасова образы дождя, тумана, тьмы, осени, голода, холода, поэта. Эти лексемы находятся в одном ряду и получают статус символов. Метафорика и символика тьмы, тумана, ночи Некрасова нашли отклик в кавказской поэзии, в частности, в творчестве С. Габиева, И. Иоаннисиана, Т. Туманяна. Эти образы нельзя рассматривать только как аллегорически выраженные социальные явления. Они наполнены глубоким философским содержанием. И. Ио-аннисиан: «Ночь нависла как густой туман / Просвета нет во мраке этом чёрном» [12, с. 401]. К символике тьмы часто прибегает и С. Габиев: «Ни зги не видно. Горы и ущелья / Исчезли под покровом темноты» [3, с. 147]. О. Туманян: «О, эти ущелья, укрытые тьмой…» [12, с. 409]. Несомненно, поэты имеют в виду в первую очередь духовную тьму, отсутствие свободы, пейзажный код интерпретации здесь как раз уместен. Образы-символы тумана, тьмы, ночи – это системные звенья некрасовской онтологии, обладающие глубинным философским смыслом.
А.Ф. Лосев считает, что в «Железной дороге» поэтом использованы мифические представления и символы. «Здесь символ, несомненно, достигает у Некрасова уже степени мифа. Разговаривающие и агитирующие покойники – это уже миф» [5, с. 177]. Далее следует любопытное замечание: «При этом здесь интереснее всего то, что сам-то Некрасов едва ли верит в эти мифы в буквальном смысле слова» [Там же].
Многие некрасовские образы (образы детей, тишины, дороги, мороза, матери, образ русской женщины и т. д.) обладают большой художественной силой и глубиной и несут дополнительные универсальные смыслы. Сила некрасовской поэзии в том и заключается, что поэт за простыми явлениями эмпирической действительности умеет постигать некие трансцендентные смыслы, превращающие его художественные образы в символы. Философ В. В. Бычков замечает: «Символ как глубинное завершение (совершение образа, его художественно-эстетическое (не-вербализуемое!) содержание свидетельствует о высокой значимости (ценности произведения), высоком таланте или гениальности создавшего его мастера» [2, с. 90].
У Некрасова проблема смерти всегда вызывала острый интерес (об этом писал ещё К. Чуковский). Некрасов постоянно испытывал странное тяготение к символике тьмы и небытия и их неизменному танатологическому персонажу – ворону, который является постоянным героем множества некрасовских текстов. Ворон как архетипический символ человеческих несчастий и трагичности самого существования всё время противопоставлен в лирике Некрасова светлому началу, и дисгармоничный инфернальный голос ворона возвещает о разрушении и смерти.
В мифологии многих народов ворон – птица зла. «Как трупная птица чёрного цвета с зловещим криком ворон хтоничен, демоничен, связан с царством мёртвых и со смертью» [7, с. 245]. Ворон упомянут ещё в эпосе о Гильгамеше и противопоставлен голубю как символу добра. Некрасовский образ ворона постоянно вписан в пейзаж, а пейзаж у Некрасова социален, в нём обязательно отражаются людские проблемы. В стихотворении «Утро» драматизм жизни передаётся через образы тумана, сырости, мутного неба и – галок, которые воспринимаются как символы человеческой трагедии. А. П. Чудаков замечает: «Эти детали встраиваются в общую унылую картину, усиливая тоску. А если таких деталей нет, то они подразумеваются, они – непременная подоснова любого российского пейзажа» [14, с. 15].
В дагестанском фольклоре ворон несёт двоякую функцию: с одной стороны, он выступает как культурный герой – пытается помочь попавшему в беду человеку (баллада «Али, оставленный в ущелье»), с другой – как медиатор между жизнью и смертью, символ несчастий. В стихотворении С. Габиева «Цель» ворон выступает в качестве символа тьмы и несвободы: «Говорят, что над нами / Чёрный каркает ворон. / Что покрылись туманом / Наши нивы и горы» [3, с. 149]. У С. Габиева, как и у Некрасова, ворон сопрягается непременно с туманом, ночью, несущими архетипические функции. Образ ворона у С. Габиева даже не столько символизирует бесправие и невежество народа (хотя это тоже есть), сколько метафизическую тьму, экзистенциальную ипостась зла.
В стихотворении «Пожарище», чтобы показать людское горе (сгорело село), Некрасов прибегает к своему излюбленному художественному приёму – пейзажной увертюре, где правит бал и ворон с его зловещими криками: «Каждое дерево ветви повесило, / Каркает ворон над белой равниною, / Нищий в деревне за дровни цепляется» [9, с. 160].
Хотя цветовая символика нехарактерна для Некрасова, однако в стихотворении «Возвращение» поэт прибегает к ней, чтобы передать своё душевное состояние: «И чёрных птиц за мной летела стая» [8, с. 187]. В стихотворении «В деревне» целых 29 строк посвящены детальному описанию ворон. Поражает динамика и монтажный локус картины и привычное «Глупое карканье, дикие стоны»; «Выясняется однако же смысл карканья: / Выдался нынче денёк несчастливый» [8, с. 127]. Вполне логична и попытка Некрасова создать национальную балладу «Ворон», в которой архетипическая птица выступает предвестником смерти. В пространстве социальных и экзистенциальных катастроф в лирике Некрасова непременным атрибутом выступает ворон.
У Некрасова образ-символ ворона часто сопрягается с дождём, ненастьем, с тёмным цветом, налицо цветовая символика: так, в стихотворении «В деревне» дважды повторяется эпитет «чёрная» (туча, сетка), несущий негативную информацию. Лексический ряд в стихотворении «В деревне» наполнен знаком смерти: «умер», «саван», «царство небесное», «плач».
Даже в таком светлом стихотворении, как «Крестьянские дети» с его жизнеутверждающим началом, появляется у Некрасова ворон, резко дисгармонирующий с образами «голубки воркующей» и грачей, при этом ворона автор наделил эпитетом «какая-то другая птица», меняя тональность и создавая классическую архетипическую оппозицию «голубь – ворон».
О власти архетипа над сознанием поэта говорит то, что он до самой смерти не может избавиться от навязчивого символа ворона, и только в 1876 г. (то есть за год до смерти) совершает архетипическое символическое действие – убивает ворона («Как празднуют трусу»): «Метко прицелился. Выстрел гремит: / Падает замертво птица угрюмая» [10, с. 173].
В некрасовском поэтическом локусе символ дороги занимает важное место, он способствовал созданию образа-символа дороги у Р. Гамзатова в поэме «Горянка», которая во многом перекликается с некрасовским символом. Интертекстуальные связи «Горянки» Гамзатова и «Тройки» Некрасова обнаруживаются в трансформации мотивов пути-дороги и женской доли. Как некрасовской героине из стихотворения «Тройка», героине гамзатовской поэмы «Горянка» предстоит символический выбор – жизненный тупик или выход за пределы консервативных традиций: «Пойдёшь ли заманчиво торной, / Шлифованной тысячами ног, / Или схожей, с дорогой горной, / Одной из нелёгких дорог?» [4, с. 63].
Диалогическое взаимодействие текста Гамзатова с некрасовским происходит на двух уровнях – лингвопоэтическом (дорога) и экзистенциальном (героиням предстоит выбрать символический путь в жизнь), ср. замечание А.В. Марунова:
«Символ как стилевой приём в поэзии Некрасова отражает центральную проблему лирического героя – выбор жизненной позиции и проектирование своей социальной роли в существующей общественной системе» [6, с. 238].
По некрасовской художественной модели строится и стихотворение грузинского поэта В. Пшавелы «По ущелью тянутся туманы». Лексемы «туман», «мрак» несут в тексте глубинный метафизический смысл, воспринимаются как символы. Интертекстуальный диалог с некрасовскими текстами ведётся и на лексико-семантическом, и на экзистенциальном уровне, образам мрака, тумана сопутствует и образ-символ ворона, и хотя у Пшавелы ворон несёт культурную функцию (объект обращения лирического героя с просьбой соучастия в его порывах), суть от этого не меняется: ворон появляется, когда человек находится в пограничной ситуации.
Таким образом, кавказская поэзия ХIХ–ХХ веков испытала сильное влияние некрасовских традиций, в том числе некрасовской манере изображения действительности через архетипы, символику и мифологические мотивы. Аналитическая интерпретация рассматриваемых нами текстов позволяет говорить о многоуровневых интертекстуальных связях кавказских текстов с некрасовскими. Некрасовские образы-символы служат для кавказских поэтов ХIХ–ХХ веков средством углублённого изображения действительности, отображения как социальных, так и этических, философских проблем.
Список литературы Некрасовские архетипы, мифы и символы в кавказской поэзии ХIХ-ХХ веков
- Большакова А. Ю. Архетип, миф и память литературы//Архетипы, мифологемы, символы в художественной картине мира/Астраханский гос. ун-т. Астрахань, 2010. С. 7-14.
- Бычков В. В. Символизация в искусстве как эстетический принцип//Вопросы философии. 2012. № 3. С. 81-91.
- Габиев С. Стихи//Поэзия Дагестана: Антология. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1971. 363 с.
- Гамзатов Р. Две шали. М.: Сов. Россия, 1971. 366 с.
- Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1995. 320 с.
- Марунов А. В. Символ как элемент художественной системы в поэзии Н. А. Некрасова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01/А. В. Марунов; Новокузнецкий филиал-институт Московского совр. гум. ун-та. Новокузнецк, 2000. 251 с.
- Мифы народов мира: В 2 т. Т. 1. М.: Большая Рос. Энциклопедия. М.: Олимп, 1998. 672 с.
- Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.и писем: В 15 т. Т. 1. Л.: Наука, 1981. 720 с.
- Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Т. 2. Л.: Наука, 1981. 486 с.
- Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.и писем: В 15 т. Т. 3. Л.: Наука, 1981. 511 с.
- Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.и писем: В 15 т. Т. 4. Л.: Наука, 1981. 655 с.
- Поэзия народов СССР. XIX -начало XX века. М.: Худож. лит., 1977. 831 с.
- Скатов Н. Н. Перечитывая Некрасова//Некрасовский сборник. Вып. 11-12. СПб.: Наука, 1998. С. 3-7.
- Чудаков А. П. Слово и предмет в стихе Некрасова//Некрасовский сборник. Вып. 11-12. СПб.: Наука, 1998. С. 8-23.
- Юнг К. Г. Бог и бессознательное. М.: Олимп; АСТ-ЛТД, 1998. 480 с.