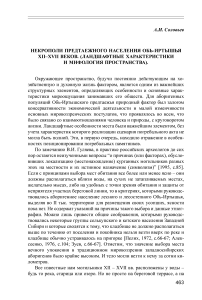Некрополи предтаежного населения Обь-Иртышья XII-XVII веков. (ландшафтные характеристики и мифология пространства)
Автор: Соловьев А.И.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521240
IDR: 14521240
Текст статьи Некрополи предтаежного населения Обь-Иртышья XII-XVII веков. (ландшафтные характеристики и мифология пространства)
Окружающее пространство, будучи постоянно действующим на хозяйственную и духовную жизнь фактором, является одним из важнейших структурных элементов, определяющих особенности и основные характеристики мироощущения занимавших его обществ. Для аборигенных популяций Обь-Иртышского предтаежья природный фактор был залогом консервативности экономической деятельности и малой изменчивости основных мировоззренческих постулатов, что проявлялось во всем, что было связано со взаимоотношениями человека и природы, с круговоротом жизни. Ландшафтные особенности места были важнейшим элементом, без учета характеристик которого реализации сценария погребального акта не могла быть полной. Это, в первую очередь, находило отражение в особенностях позиционировании погребальных памятников.
По замечанию В.И. Гуляева, в практике российских археологов до сих пор остаются неизученными вопросы “о причинах (или факторах), обусловивших локализацию (местонахождение) курганных могильников разных эпох на местности и их истинное назначение (символизм)” [1995, с.85]. Если с принципами выбора мест обитания все более или менее ясно – они должны располагаться вблизи воды, на сухих не затапливаемых местах, желательно мысах, либо на удобных с точки зрения обитания и защиты от неприятеля участках береговой линии, то в критериях, которыми руководствовалось аборигенное население лесного и лесостепного Обь-Иртышья, выделяя во II тыс. территорию для размещения своих усопших, ясности пока нет. Не содержат указаний на причины такого выбора и данные этнографии. Можно лишь привести общие соображения, которыми руководствовались некоторые группы селькупского и кетского населения Западной Сибири и которые сводятся к тому, что кладбище не должно располагаться выше по течению от поселения и покойника нельзя везти вверх по реке и кладбище обычно устраивалось на пригорке [Пелих, 1972, с.66-67; Алексеенко, 1976, с.104; Зуев, с.66-67]. Отметим, что значение выбора места вечного упокоения в традиционном мировоззрении западносибирских аборигенов было крайне высоким. И тело могли везти к нему за сотни километров.
Все известные нам могильники XII – XVII вв. расположены у воды – будь то река, старица или озеро. Но не просто на береговой террасе, а на самом высоком её месте. Эти особенности присущи всем без исключения памятникам, как исследованным, так и пока еще нет. Факторы высотного доминирования действовали на воображение аборигенного населения на протяжении многих сотен лет, о чем свидетельствует расположение в близком ландшафтном контексте могильников всего указанного хронологического диапазона. Даже в тех случаях, когда местность была равнинной (Абрамово-10), все равно выбиралась, зрительно доминирующая точка. Несложно прийти к выводу, что значимыми критериями для выбора мест погребения являлись высокое место и его соседство с водным пространством, которое должно было быть обширным настолько, насколько позволяли возможности ландшафта.
Если воспользоваться общепринятой терминологией для анализа духовных представлений традиционных обществ, то можно ассоциировать ландшафтные характеристики мест расположения могильников с мифологемами “Горы” и космических вод в картине мира. В многочисленных космогонических мифах воды предстают как первооснова и фундамент мира, некий хаос, из глубин которого демиург в одном случае гагара (обские угры), в другом пара уток (тюрки), в третьем гигантский вепрь (третье воплощение Вишну) и т. д. извлекает землю. Вода, таким образом, выступает некой исконной субстанцией, первовеществом, из которого рождаются все формы, и в которое они возвращаются в конце космического или жизненного цикла, чтобы возродиться вновь [1999, с.246, 347-348, 384, 385].
Прилегающая возвышенность, условная “гора”, дает пример приближения к противолежащей сфере мироздания. Но при этом вершина Космической горы это “не только самая высокая точка Земли; она так же и пуп земли, точка, где начиналось творение” [Элиаде, 1998, с.30]. Не имея возможности далее задерживаться на архетипах, столь хорошо исследованных в специальной литературе, отметим, что силою обряда любая возвышенность может пресуществиться в Космическую, любая вода может отожествиться с первичными Водами, любое древо может стать мировым, а ось мира пройти через очаг жилища, храма или центр могилы, которая может стать одновременно и “центром” и “пупом Земли” [Элиаде, 1999а, с.31,80,270,271]. Такова, по образному выражению М. Элиаде, “Парадоксальная диалектика сакрального пространства – разом доступного и недоступного, единственного в своем роде “потустороннего, трансцендентного, и в то же время воспроизводимого по воле человека” [Там же, с.279].
Но хотя указанные характеристики территории являются совершенно необходимыми критериями для выбора мест захоронения, сами по себе они не являются достаточными. Похожих мест много, но использовались лишь некоторые. То есть в этих случаях нужно было еще что-то такое, что явило бы себя человеку, обозначило бы данное пространство, преобразив его, придав ему особый смысл, выделив его из окружающей территории [Элиаде, 1999а, с.253]. Это нечто обнаруживается в том, что у всех исследованных памятников есть один общий признак, замыкающий собой три- аду примет, определявших выбор участка. Он заключается в том, что все они находятся на территории памятников предшествующих эпох или же рядом с ними.
Но может это случайность, вызванная стереотипами мышления, комфортностью самого места и ограниченностью числа пригодных для обитания и хозяйственной деятельности участков у акваторий региона, неизбежно, с древнейших времен, вызывавших к себе внимание различных популяций?
С точки зрения логики, связанной с архетипичными и повсеместно распространенными в Западной Сибири (у тюрков, угров, самодийцев, кетов) представлениями о том, что потустронний мир представляет собой негативное отображение среднего, участок территории, выделяемый для пребывания “душ-теней” своих соплеменников, не обязан быть экологически благоприятным. Фактически, эта территория изымалась из природного окружения, становясь недоступной для хозяйственной деятельности. Таким образом, логичнее было бы размещать некрополи недалеко от поселков на не представляющих особой ценности местах, проекция которых в иные измерения вполне бы удовлетворяла сложившимся представлениям. Но так не происходит.
Непрерывность круговорота жизни с целью не допустить бесследного исхода живого существа оказывается чрезвычайно важной и актуальной идеей для всего урало-алтайского мира и его архаичных обществ, постоянно озабоченных поддержанием бытия и ожидающих обратного возвращения в род реинкарнирующихся душ своих членов. То обстоятельство, что все ныне живущие есть продолжение предков, стимулировал трансляцию из поколения в поколение одних и тех же имен, текстов сказаний, обычаев и приемов обеспечения такого круговращения [Сагалаев, 1991, с.127-137-8]. Гарантией неизменности цикла и был правильно организованный погребальный акт, при проведении которого особо заметным становится “стремление архаического мироощущения “привязать” любые свои построения к ощутимым (или – проверяемым) координатам” [Там же, с.113]. В данном случае доминантным символам урало-алтайского мира – Реке и Горе.
Но “всякое осознанное действие, преследующее вполне определенную цель для человека, стоящего на архаической ступени развития, – по справедливому замечанию М. Элиаде, – представляло собой определенный ритуал”, значимость и ценность которых “зависят не от количества затраченной на них физической энергии, а от того, как точно они воспроизводят акт первотворения, повторяют мифологический образец” и действия совершенные богами героями или предками [1998, с. 47,15,17]. В осмысленных поступках человека, “повторяющих изначальное образцовое действие, беспрерывно воспроизводятся и мифическое время и сакральное пространство”, понятие которого предполагает существование феномена, некогда освятившего данное пространство и отделившего его от окружающего профанного пространства [1990, с. 253, 272].
В системе архаического мироощущения считается, что человек самостоятельно никогда не находит какую-либо необычную вещь. Наоборот предполагается, что она сама избирает его, заставляя обнаружить и принять себя [Пелих, 1980, с.19]. Равным образом человек не избирает данное место – оно само “находит” его. Иначе говоря, сакральное пространство тем или иным способом “открывается” человеку. Как человек, обнаруживший особую вещь, может считаться отмеченным духами, так и места таких находок мыслятся отмеченными особой святостью. Думается, идентификация подъемного материала как следов предшествующей деятельности легендарных героев или предков в мифические времена была естественна для средневекового населения. Следовательно, наличие таких предметов, разбросанных вдоль береговой линии, могло служить указанием на особый статус данной местности, о священный деяниями боже ств и предков. Статус, частично уже позиционированный циклическими увлажнениями, когда, например, из вешних вод поднимался взлобок земли, который по мере их убывания “рос” и трансформировался из “мертвой”, неоформленной почвы, в привычный земной ландшафт, естественным образом, напоминая, картину мифических времен творения.
Особенно ярко все эти характеристики заметны на памятнике Сопка-2, когда в периоды увлажнения останец выглядит маленьким островком среди водной стихии, клочком суши, который как будто совсем недавно достала легендарная гагара из глубин первозданного хаоса. Скрытые водой пространства столь велики, что водная гладь почти сливается с небом. Все окре стности кишат водоплавающей дичью, плотные стаи которой ныряют, стрекочут и режут крыльями воздух. Вся эта дикая гармония даже современному человеку живо напоминает изначальные мифологические времена. Даже самый маловыразительный с позиций ландшафтного позиционирования памятник Абрамово-10 в период своего функционирования в XVII в. являл картину близкую к мифологической. На это время пришлось одно из крупных, документально зафиксированных увлажнений Барабы, когда, например, озеро Чаны разлилось по площади до 10-12 тыс. кв. км (против нынешних 3,5 тыс.), поглотив при этом ряд крупных ныне самостоятельных озер. [Мордкович, 1995, с.64-66 ]. И воды реки Оми, заполняя пространную пойму у подножия могильника, окружали гриву под памятником, так, что она приобретала вид острова или вытянутого мыса, глубоко вдававшегося в окрестное “море”.
Таким образом, отправляя умершего в страну предков, население, оставившее могильники XII – XV веков, стремилось максимально облегчить этот процесс, отыскивая особого рода точки, где, по их представлениям, сближались границы миров, и был облегчен переход в иные измерения, места, где природное окружение было близким к картинам изначального творения, а сами такие места были бы маркированы ре- альными следами деятельности воображаемых предков. На таких местах возводились курганные сооружения, архитектура которых соответствовала принципам образцовой космогонии и, воссоздавая в миниатюре структуру мира, делала достижимыми его пределы. Это позволяло ритуально вернуть изначальные времена и гарантированно доставить умершего к месту его заупокойных трансформаций.