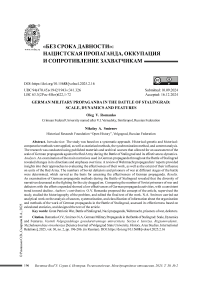Немецкая военная пропаганда в Сталинградской битве: масштабы, динамика и особенности
Автор: Романько О.В., Смирнов Н.А.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: «Без срока давности»: нацистская пропаганда, оккупация и сопротивление захватчикам
Статья в выпуске: 2 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Сталинградская битва стала решающим сражением Второй мировой войны не только с военной, но и с пропагандистской точки зрения. Немецкая сторона вступила в сражение, имея огромное преимущество в информационном противоборстве, и приложила все усилия для морального разложения Красной армии под Сталинградом. Интерес для исследования представляет изучение организации и методов немецкой пропаганды в Сталинградской битве, а также оценка ее эффективности. Методы и материалы. Основой исследования стал системный подход. Были применены историко-генетический и историко-сравнительный методы, статистические методы и метод синхронизации, контент-анализ. Исследование было проведено на базе опубликованных материалов, а также архивных источников, позволяющих оценить масштабы немецкой пропаганды против Красной армии в Сталинградской битве и динамику ее эффективности. Анализ. Изучение основных нарративов немецкой пропаганды, применявшихся в течение Сталинградской битвы, позволило выявить динамику изменения ее направлений и акцентов. В результате анализа отчетной документации пропагандистов вермахта определены их подходы к оценке эффективности своей работы, а также масштабы пропагандистского воздействия на части Красной армии. Было установлено количество советских перебежчиков и военнопленных на различных этапах сражения, на основании чего проведена оценка эффективности немецкой пропаганды. Результаты. Изучение методов немецкой пропаганды в течение Сталинградской битвы показало, что разнообразие нарративов снижалось по мере затягивания боев за город. Оценка количества советских военнопленных и перебежчиков в сравнении с затраченными усилиями выявило невысокую эффективность немецких пропагандистских мероприятий с постоянной тенденцией к снижению. Вклад авторов. О.В. Романько была предложена концепция статьи, осуществлено руководство исследованием, изучена историография проблемы, а также проведена работа над текстом статьи. Н.А. Смирновым проведен анализ источников, систематизация и классификация информации об организации и методах работы немецкой пропаганды в Сталинградской битве, осуществлена оценка ее эффективности на основе рассчитанных статистических данных, оформлен текст статьи.
Великая Отечественная война, Сталинградская битва, нацистская пропаганда, вермахт, военнопленные, перебежчики
Короткий адрес: https://sciup.org/149147759
IDR: 149147759 | УДК: 94(470.45)«1942/1943»:341.326 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.2.16
Текст научной статьи Немецкая военная пропаганда в Сталинградской битве: масштабы, динамика и особенности
DOI:
Цитирование. Романько О. В., Смирнов Н. А. Немецкая военная пропаганда в Сталинградской битве: масштабы, динамика и особенности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 2. – С. 196–206. – DOI:
Введение. Сталинградская битва, ставшая, без сомнения, переломным событием Второй мировой войны, характеризовалась, помимо масштабов и кровопролитности вооруженного противостояния, невиданным ранее напряжением пропагандистского противоборства. Красная армия в ходе обороны Сталинграда устояла перед мощнейшим психологическим воздействием противника. Тем не менее в отечественной и зарубежной историографии практически отсутствуют работы, посвященные немецкой и советской пропаганде на войска противника в ходе этой битвы. В связи с этим актуальной является проблема уточнения масштабов пропаганды обеих сторон и оценки ее эффективности. В качестве отдельного важного аспекта этой проблемы можно выделить оценку объемов издававшихся и распространявшихся немецкими пропагандистами печатных материалов для советских войск, а также определение методов оценки эффективности немецкого идеологического воздействия на советские войска.
В связи со сказанным целью данного исследования является изучение немецкой военной пропаганды, ее динамики и эффективности воздействия на военнослужащих Красной армии в период Сталинградской битвы. Для достижения поставленной цели необходимо: а) охарактеризовать организацию немецких пропагандистских служб, действовавших на сталинградском направлении; б) определить основные тенденции немецкой пропаганды в ходе битвы; в) установить количество распространенных пропагандистами вермахта среди красноармейцев агитматериалов на различных этапах битвы; г) выявить методы оценки эффективности пропаганды, применявшиеся немецкой стороной в годы войны, охарактеризовать их корректность; д) определить количество советских военнопленных и перебежчиков, учтенных немецкой стороной на разных этапах битвы на основе суточных донесений различных отделов армейских штабов 6-й и 4-й танковой армий вермахта; е) произвести сравнение динамики захвата военнопленных и перебежчиков с динамикой пропагандистской работы против частей Красной армии. Таким образом, предметом исследования является работа немецких пропагандистских подразделений во время Сталинградской битвы, а также, впервые в историографии, методика определения эффективности пропагандистских мероприятий, принятая в вермахте.
Методы и материалы. Пропаганда вермахта против Красной армии в ходе Великой Отечественной войны нечасто становилась предметом самостоятельного исследования. Наибольший вклад в изучение структуры и функционирования служб пропаганды вермахта на протяжении войны в целом был внесен О. Бухбендером [18] и А.В. Окороковым [10]. Особенности взаимодействия министерств и ведомств нацистской Германии в пропагандистских вопросах подробно описаны в монографии М.В. Дацишиной [5], однако преимущественно в контексте работы на оккупированных территориях СССР. Немецкая пропаганда в Сталинградской битве являлась самостоятельным предметом исследования лишь в работах В.А. Горелкина [2–4]. Осо- бенностью всех перечисленных работ (за исключением О. Бухбендера) является невысокая степень использования зарубежных архивов из-за проблем с доступом и разрозненности источников. Оцифровка архивных фондов России, США и Германии позволила комплексно изучить данную проблематику и привела к появлению работ, освещающих этапы пропагандистского противостояния СССР и нацистской Германии [17] и психологическую составляющую отдельных операций войны [1; 13; 16].
Источниковая база исследования представлена несколькими группами материалов. В первую очередь это приказы и директивы о ведении пропаганды против Красной армии, издававшиеся отделом пропаганды вермахта и отложившиеся в Федеральном архиве ФРГ. Наиболее обширную, вторую группу источников представляют отчеты о пропагандистских мероприятиях в полосе 4-й танковой и 6-й армий вермахта, находящиеся в Политическом архиве МИД ФРГ, а также в микрофильмированных документах 6-й и 4-й танковой армий, 8-го авиакорпуса, 5-й бомбардировочной авиагруппы особого назначения и группы армий «Б» в Национальном архиве США. Третья группа источников – это количественные сводки о военнопленных и трофеях в составе отчетных документов армейских служб тыла и разведки / контрразведки в Национальном архиве США в фондах T-312 и T-313.
Исследование базируется на основных принципах исторической науки: историзме, объективности и системности. Системный подход, заключающийся в изучении организации и методов немецкой пропаганды в Сталинградской битве и механизмов определения ее эффективности, позволил достигнуть цели работы. Историко-генетический метод использовался для оценки динамики эффективности немецкой пропаганды относительно хода боевых действий. Историко-сравнительный метод применялся для сравнения показателей распространения листовок на различных этапах битвы, для оценки расхождений в учете пленных и перебежчиков в различных формах отчетности. Для подсчета суммарных и средних количеств военнопленных и перебежчиков в ходе битвы были задействованы статистические методы. При поиске исходных дан- ных для вычислений применялся контент-анализ делопроизводственной документации разведывательных и тыловых служб армий вермахта. Сравнительная оценка показателей немецкой пропаганды в полосе групп армий «Б» и «Центр» за один и тот же период была осуществлена методом синхронизации.
Анализ. Пропаганда в нацистской Германии не была жестко централизована, а представляла собой поле для конкуренции различных ведомств. Однако, в отличие от оккупированных советских территорий под гражданским управлением, где ярко себя проявляла межведомственная борьба, вопросы военной пропаганды были целиком сосредоточены соответствующем отделе при Верховном командовании вермахта (далее – ОКВ/ВПр) под руководством полковника Х. фон Веделя. «Активную пропаганду» на войска и население противника в отделе курировала группа IV под руководством полковника Г.-Л. Мартина. Рассматривая немецкую пропаганду в Сталинградской битве, необходимо иметь в виду, что вся идеологическая работа на фронте строго подчинялась указаниям из Берлина, откуда передавалось не менее 50 % печатных агитматериалов и все указания, тезисы и нарративы общеполитической пропаганды против СССР.
В идеологических вопросах вермахт действовал не самостоятельно, а согласовывал свои действия с выделенным в составе министерства пропаганды генеральным рефератом «Восточные территории», руководимым доктором Э. Таубертом. Реферат выдавал вермахту программные установки, готовил по заказам военного ведомства те или иные пропагандистские материалы, привлекая гражданских специалистов: художников, фотографов и писателей.
На армейском уровне в вермахте действовали компактные маневренные подразделения – роты пропаганды. В каждую роту входил взвод «активной пропаганды», взвод автогромкоговорителей и типографское листовочное отделение. Вопросы сбора и анализа информации о противнике находились за пределами компетенций роты и возлагались на разведывательный отдел (далее – Ic) штаба армии, которому рота подчинялась в оперативном плане. Сотрудники отдела обрабаты- вали информацию от абвергрупп, проводили допросы военнопленных и агентуры противника, собирали информацию, запросы и проекты листовок от разведотделов корпусного и дивизионного уровней и передавали роте пропаганды для разработки агитматериалов. В наступлении на Сталинград были задействованы 637-я рота пропаганды в составе 6-й армии и 694-я рота пропаганды танковых войск в составе 4-й танковой армии. На завершающем этапе сражения в декабре 1942 г. на сталинградское направление будет переведена 695-я рота пропаганды, действовавшая ранее в составе 11-й армии [13].
Информационную поддержку вермахту оказывал МИД Германии, имевший своих представителей как в ОКВ/ВПр (в период Сталинградской битвы – советник миссии В. Хелленталь), так и при штабе каждой полевой или танковой армии вермахта. В 6-й и 4-й танковой армиях представителями МИД соответственно являлись советники миссии К. фон Шуберт и Г. фон цур Мюлен. Представители МИД оказывали содействие как в разработке и редактуре агитпродукции, так и в аналитической работе.
К моменту начала операции «Блау» в частях пропаганды вермахта добавилось еще одно управленческое звено – офицер пропагандистского сектора при штабе группы армий. Новый офицер должен был отвечать за связь с ОКВ/ВПр, за снабжение войск агитматериалами, распределять агитационные боеприпасы, координировать работу рот пропаганды, действующих в соединениях групп армий, организовывать печать дополнительных тиражей листовок, устанавливать взаимодействие с люфтваффе и применять приданные ему подразделения агитационных шаров-зондов для усиления пропаганды на наиболее важных направлениях. В качестве дополнительных печатных мощностей в каждую группу армий в 1942 г. передавалась железнодорожная типография, подчинявшаяся офицеру пропагандистского сектора. В период Сталинградской битвы в группе армий «Б» эту должность занимал обер-лейтенант Вар-неке, в подчинение которого входило 3-е отделение агитационных шаров-зондов и стационарная типография в г. Полтаве [1 3; 14, с. 48–49].
Для улучшения взаимодействия в вопросах пропаганды с союзниками Германии (венгерской, итальянской и румынской армиями) в мае 1942 г. в каждое союзное командование был направлен офицер связи ОКВ/ВПр, в подчинении которого находилось отделение пропагандистов. Всего было сформировано четыре таких отделения: по одному для итальянской и венгерской и два для румынской армии [14, с. 39–40].
В ходе Сталинградской битвы немецкой стороной применялся целый ряд специально разработанных пропагандистских нарративов. Здесь необходимо отметить, что основной тенденцией на протяжении всей войны являлась агитация в пользу добровольного перехода в плен. Однако если в 1941 г. в качестве мотивирующего фактора однозначно выбиралась борьба с большевизмом, то в 1942 г. подход был скорректирован в сторону «спасения собственной жизни» и «лучшего питания и обращения в немецком плену, чем в советской армии». Также перебежчикам обещали приоритет в трудоустройстве на оккупированных территориях [13]. Приведем некоторые наиболее характерные для рассматриваемых событий тенденции немецкой пропаганды.
В начале Сталинградской битвы, в июльских и августовских боях 1942 г., в большой и малой излучине Дона, в междуречье Дона и Волги основной акцент делался на безнадежном положении советских войск. В этой связи немецкими пропагандистами активно обыгрывался приказ наркомата обороны СССР от 28 июля 1942 г. № 227, представлявшийся ими как предвестник краха Красной армии и Советского государства. Для советских военнослужащих были разработаны листовки, содержавшие лишь оценки приказа, а для гражданского населения предназначалась маскировочная листовка, практически полностью воспроизводившая текст и оформление приказа и имевшая в нижней части примечание антисоветского характера. Согласно докладным запискам особого отдела НКВД Сталинградского фронта, реакция военнослужащих на приказ варьировалась от воодушевления до мнений о его запоздалости и безнадежности дальнейшей борьбы или даже до прямых призывов к расправе над политработниками [15, с. 163–168, 173–181].
Начальный этап Сталинградской битвы совпал с кардинальным пересмотром пропагандистской концепции в отношении советских политработников. Учитывая результаты эксперимента, проведенного в полосе 18-й армии при разгроме советской 2-й Ударной армии в мае – июне 1942 г. [16], руководство пропагандистских служб вермахта ушло от призывов к безусловной расправе над политработниками. В августе они перешли к призывам в адрес политруков и комиссаров переходить на сторону немцев, для чего была выпущена специальная листовка «Политработники Красной Армии!», которую следовало применять вместе с более ранними образцами, чтобы не утилизировать последние как потерявшие актуальность [14, с. 56–57].
При приближении немецких войск к Сталинграду возникла необходимость пропагандистской обработки населения города, для чего были разработаны две листовки-обращения: одна – ОКВ/ВПр, другая – 637-й ротой. Листовки преследовали цели вызвать саботаж при эвакуации имущества и оборудования предприятий и не допустить их уничтожения, поскольку Сталинград планировалось занять быстро и использовать его промышленную базу в целях Германии. Воздействие на население Сталинграда не было эффективным, так как, с одной стороны, оно сопровождалось интенсивными бомбардировками города, в результате которых с 23 по 30 августа 1942 г. было убито 1 815 чел. и ранено 2 698 чел., с другой же стороны – сбор и уничтожение вражеских листовок были оперативно организованы силами НКВД, милиции и рабочих отрядов [6].
Немецкой пропагандой широко эксплуатировались темы «нового земельного порядка» и упразднения колхозов, разгрома британского десанта в Дьепе с целью дискредитации темы второго фронта и тяжелого положения советских частей на Сталинградском фронте. Кроме того, в сентябре 1942 г. была проведена листовочная акция против советских танковых частей с призывами переезжать на сторону вермахта на своей технике [13; 18, S. 210, 212–213].
Одним из важнейших направлений немецкой пропаганды стало разжигание межнациональной розни, для чего использовался широ- кий спектр листовок и звуковых передач на языках различных народов СССР. Широкая антисоветская пропаганда проводилась в отношении донского казачества и калмыков, о которых командование 6-й армии даже выпустило специальную памятку (Памятка для военнослужащих 6-й армии вермахта об отношении к казакам; см: [14, с. 108–109]).
В связи с переносом боевых действий на территорию города, а также с тем, что Сталинград обретал огромное символическое значение не только в СССР, но и во всем мире, ОКВ/ВПр организовал пропагандистскую акцию на фронте и на оккупированных советских территориях под общим лозунгом «Москва – это голова Советского Союза, Сталинград – его сердце!» [13].
В пропаганде против Красной армии основным средством являлись листовки, распространявшиеся агитационными артиллерийскими и пехотными боеприпасами, самолетами эскадрилий тактической разведки, а также специально выделенными для пропагандистских задач бомбардировщиками 5-й авиагруппы особого назначения. Кроме того, ротами пропаганды широко применялось звуковеща-ние, особенно в городе и его окрестностях, например при ликвидации Орловского выступа и в боях за завод «Баррикады». В ходе боев в устье р. Царицы против остатков 92-й отдельной стрелковой бригады практиковался обратный отпуск военнопленных с целью склонения оставшихся красноармейцев к сдаче в плен [12].
Пропагандистские мероприятия, как и любая другая составляющая боевых действий, требовали выделения немалых сил и средств и нуждались в оценке эффективности, прежде всего количественной. Единственным количественным показателем, использовавшимся в данном вопросе немцами, являлось число перебежчиков, перешедших к ним за отчетный период. Данный показатель, безусловно, нельзя считать исчерпывающим, поскольку он зависел от множества факторов: положения на данном участке фронта, общего хода войны и т. д. Однако пропаганда также ощутимо влияла на число перебежчиков и, несколько более опосредованно, на число военнопленных в целом, поскольку ее главной задачей являлось снижение стойкости против- ника. Подобную неоднозначность оценки осознавали и немцы, что можно увидеть из отчета одной из рот пропаганды, где подчеркивалось: «Успех измеряется не только количеством перебежчиков и пленных, но также проявляется и в снижении моральных сил противника» [14, с. 199–201].
Сведения о количестве пленных и перебежчиков на уровне армий и армейских корпусов вермахта отражались, как правило, в документах служб Ic и тыла армии (документы обер-квартирмейстера; далее – O.Qu.), а также, эпизодически, в документах оперативных отделов (Ia).
В 6-й армии на момент начала Сталинградской битвы оценить данные о пленных и перебежчиках возможно по суточным донесениям Ic и O.Qu. Цифры, указываемые в двух видах отчетности, неизбежно различаются в силу разницы во времени подачи отчетов и подходов к подсчету. Отдел Ic в число пленных заносил общую сумму попавших в руки немецких войск красноармейцев, а число перебежчиков, уже входившее в эту цифру, указывал лишь для справки. Служба O.Qu, напротив, указывала отдельно пленных и перебежчиков, поскольку в ее подчинение входили пункты сбора пленных и пересыльные лагеря, и она контролировала вопросы продовольственного обеспечения пленных и их транспортировки. Перебежчиков требовалось учитывать особо в связи с их содержанием отдельно от остальной массы военнопленных. Поскольку цифры пленных и перебежчиков непосредственно отражались на хозяйственной деятельности службы тыла армии, нами было принято решение анализировать именно донесения O.Qu. как наиболее точные. Для анализа было выбрано два типа документов: суточные донесения и количественные сводки (Zahlenmeldungen). Первые подавались сразу по итогам дня и содержали всю накопленную за сутки информацию. Вторые собирались в течение 5–7 дней и учитывали все данные, относящиеся к рассматриваемой дате, но собранные в том числе позднее.
В начале сражения, в июльских боях, суточные донесения не полны, поскольку в контексте активных маневренных боевых действий не всегда удавалось получить от корпусных штабов точные данные в положенный срок. Поэтому за период до 31 июля 1942 г. включительно суточные цифры пленных и перебежчиков, которые можно получить лишь расчетным путем, в рамках данного исследования не рассматриваются.
С августа точность учета перебежчиков значительно возрастает, данные по ним имеются в каждой сводке. 9 августа 1942 г. службе тыла было дано указание немедленно отделять перебежчиков от обычных пленных, а также еще до передачи в тыл выдавать перебежчикам особые удостоверения, так как «в противном случае особое отношение к перебежчикам теряет свое пропагандистское значение, если становится возможным смешивание остальных военнопленных, не перешедших добровольно, с группами перебежчиков» [14, с. 63–65]. Поскольку пропаганда добровольного перехода в плен, сулившая перебежчикам особое отношение во всех сферах, занимала ключевые позиции, халатные действия войск сводили на нет огромные пропагандистские усилия.
В результате анализа донесений и суммирования данных за август 1942 г. были рассчитаны следующие значения: всего в августе 1942 г. в полосе 6-й армии попало в плен 64 954 человека. Также на сторону немецких войск за этот период перешло 1 112 перебежчиков. Пиковое значение числа военнопленных (9 368 чел.) приходится на 11 августа 1942 г., а большинство перебежчиков (430 чел.) – на 27 августа. В полосе 4-й танковой армии, согласно документам Ic, было пленено 31 849 чел., а перешло на сторону немцев 575 [8; 9].
Несмотря на высокие абсолютные величины, процент перебежчиков от общего числа военнопленных был низок. Как указывал представитель МИД в 6-й армии об августовских боях, «...при быстром продвижении войск не всегда получалось указывать перебежчиков отдельно от пленных. Пленные, взятые в указанный период, согласно единодушным рапортам войск, почти без исключений имели при себе немецкие листовки с пропусками» [14, с. 109–113].
Однако можно встретить и иные оценки, частично объясняющие невысокий процент перебежчиков в начале сражения. Так, представитель военной разведки делал вывод, что
«у них было энергичное командование, поэтому сначала количество перебежчиков было невелико. Они появились, когда уже боевой дух из-за больших понесенных потерь снизился» [11].
В сентябрьских боях количество пленных, взятых 6-й армией, существенно снизилось и составило 28 633 человека. Количество перебежчиков при этом выросло до 2 232. Аналогичное соотношение заметно и в 4-й танковой армии: 16 026 пленных и 1 172 перебежчика. Вероятно, это было связано как со стабилизацией фронта, так и с тем, что в отсутствие крупных «котлов» красноармейцам, желавшим перебежать на сторону немцев, приходилось все чаще идти на этот шаг осознанно, не дожидаясь благоприятного момента для пассивной сдачи.
В октябре, по мере дальнейшего перехода боев в позиционную фазу, количество пленных продолжило падать. Всего за октябрь 1942 г. части 6-й армии пленили 11 531 красноармейца, а добровольно перешло на ее сторону 1 617 человек. В полосе 4-й танковой армии за тот же период показано 1 502 военнопленных и 1 132 перебежчика.
В ноябре тенденция к снижению числа пленных и перебежчиков сохранилась. Ноябрьские значения оказываются минимальными за всю оборонительную (со стороны советских войск) фазу сражения. Всего с 1 по 20 ноября 1942 г. частями 6-й армии было взято в плен 1 445 человек. Также за этот период добровольно перешло на сторону противника 410 красноармейцев. Статистика донесений 4-й танковой армии говорит о 3 315 пленных и 474 перебежчиках. На такое снижение чисел в ноябре 1942 г. во многом повлияло снижение боевого потенциала обеих сторон.
Следует отметить, что в ходе Сталинградской битвы, несмотря на то что в руках немцев оказывалось все меньше красноармейцев, доля перебежчиков в их числе непрерывно росла. Так, по 6-й армии это соотношение равнялось: 1,68 % в августе, 7,23 % в сентябре, 12,3 % в октябре и 22,1 % в ноябре 1942 года. По 4-й танковой армии: 1,77 % в августе, 6,81 % в сентябре, 42,98 % в октябре, 12,51 % в ноябре 1942 г. [7–9].
Поскольку целью исследования является оценка эффективности пропаганды, то за количественный показатель можно принять относительное число распространенных листовок, приходящихся на одного перебежчика. Так, известно, что за период с августа по октябрь 1942 г. в полосе 6-й армии было распространено 164 428 000 листовок, из них: 44 206 000 – за август, 75 399 000 – за сентябрь и 44 823 000 – за октябрь. Столь огромные цифры позволяют сделать вывод, что в ходе Сталинградской битвы немецкой стороной была проведена одна из крупнейших информационных кампаний в мировой истории. Подобного количества листовок немцы не распространяли в полосе отдельно взятой армии даже в ходе крупнейшей пропагандистской акции «Серебряная полоса» в 1943 году. Как можно отметить, после сентябрьского пика в октябре 1942 г. объемы распространения агитпродукции упали почти вдвое, что было вызвано как постепенным разочарованием немецкого командования в результатах, так и ростом боевой нагрузки на авиацию и артиллерию в связи с продолжением битвы и все возраставшим напряжением сил немецкой группировки. Что же касается относительных показателей, то они выглядят следующим образом: 39 754 листовки на одного перебежчика в августе, 33 781 в сентябре и 27 720 в октябре 1942 г. [14, с. 85–88, 90–91, 125–126].
Если сравнивать эти показатели с показателями группы армий «Центр», то они являются запредельно высокими и свидетельствуют о явном перерасходе усилий. Так, в августе 1942 г. в соединениях группы армий «Центр» относительные показатели были следующими: 2-я танковая армия – 2 119 листовок на одного перебежчика (всего 1 601 перебежчик), 3-я танковая армия – 6 660 (698), 4-я армия – 5 000 (363), 9-я армия – 3 308 (1 455). В сентябре показатели оставались примерно такими же. Как можно отметить, соединения группы армий «Центр» в ходе позиционных боев расходовали на одного перебежчика в 10 раз меньше листовок, чем 6-я армия на сталинградском направлении. При этом количество перебежчиков для каждой армии является вполне сопоставимым [18, S. 211].
Достаточно показательными в отношении собственной, немецкой оценки эффективности пропаганды выступают итоговые отчеты разведывательных отделов 6-й армии и 8-го авиакорпуса за август, сентябрь и октябрь 1942 года. В отчетах разведотделов указаны цифры: 791 перебежчик в августе, 6 126 в сентябре и 2 341 в октябре. При этом если августовская цифра занижена, что может быть вызвано недоучетом со стороны отделов Ic, то данные за сентябрь и октябрь являются примерно вдвое завышенными по отношению к реальности. Искажены и процентные показатели: в октябрьском отчете разведотдела 8-го авиакорпуса указано, что в сентябре перебежчиков было 11 % от общей массы плененных красноармейцев, а в октябре – 18 %, что выше реальных данных в полтора раза. Это позволяет предположить, что работники разведотделов и командиры рот пропаганды могли сознательно искажать факты, стремясь показать резкий и многократный рост числа перебежчиков в условиях ведения столь масштабной акции. В то же время реальные значения могли показаться ОКВ/ВПр и министерству пропаганды слишком малыми и не оправдывавшими трату более чем сотни миллионов листовок и десятков самолетовылетов.
Результаты. В ходе Сталинградской битвы немецкая сторона задействовала довольно компактную, укомплектованную подготовленными кадрами и прекрасно технически оснащенную сеть пропагандистских подразделений. Пропагандисты вермахта были интегрированы в состав штабов армий и групп армий, что позволяло им оперировать актуальной и точной информацией о противнике и получать обратную связь об эффективности собственных действий.
В период Сталинградской битвы 637-я и 694-я роты пропаганды, а также сотрудники службы офицера пропагандистского сектора при группе армий «Б» с точки зрения подготовки нарративов действовали строго в русле руководящих указаний и директив из Берлина. Немецкая пропаганда быстро реагировала на изменения обстановки как на конкретном участке фронта, так и в целом в мире. Она стремилась любыми средствами оказывать деморализующее и разобщающее воздействие на советские войска, а итогом воздействия становился прямой призыв к переходу на сторону противника. Однако большое разнообразие агитматериалов было характер- но лишь для летних боев и начала осени 1942 г., затем пропаганда становилась все более однообразной, сводясь зачастую лишь к наиболее многотиражным «пропускам в плен» или оперативным листовкам ротных выпусков.
Анализируя количества перебежчиков по месяцам, можно сделать вывод, что, несмотря на натиск 6-й и 4-й танковой армий вермахта и усиление пропагандистской работы, число пленных и перебежчиков демонстрировало неуклонную тенденцию к снижению. Однако при падении абсолютных цифр происходил устойчивый рост доли перебежчиков в общем объеме попавших в плен красноармейцев, поскольку сражение за Сталинград, начавшееся как маневренное, постепенно перешло в позиционную фазу. В такой ситуации захватывать большое число пленных одномоментно у немецкой стороны не было возможности, но перебежчики продолжали приходить, так как в ходе позиционных боев возможности сдаться в плен путем «осознанного бездействия» и ожидания окружения уже не было, и нестойким бойцам не оставалось выбора, кроме как перебегать самостоятельно к противнику или сражаться до конца.
Сравнение относительной эффективности печатной пропаганды в виде количества листовок на одного перебежчика с соединениями группы армий «Центр» говорит о гораздо меньшей эффективности немецких пропагандистских мероприятий под Сталинградом, а точнее, о явной избыточности прилагаемых усилий. Вероятно, немецкие пропагандисты рассчитывали на линейную зависимость роста числа перебежчиков пропорционально росту масштабов воздействия, в то время как эффективность пропаганды по мере траты все больших ресурсов неуклонно снижалась.
Таким образом, можно сделать общий вывод, что немецкие пропагандисты в ходе летне-осенней кампании 1942 г. вначале испытали «головокружение от успехов», затратив огромное количество усилий и ресурсов, но не добились ожидаемых результатов. По мере затягивания Сталинградской битвы им становилось все труднее создавать новые нарративы, что привело сначала к уменьшению разнообразия распространяемых агитматериалов, а с началом советского контрнаступления – и вовсе к утрате инициативы на информационном фронте.