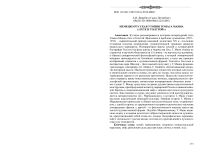Немецко-русская утопия Томаса Манна ("Гете и Толстой")
Автор: Жеребин Алексей Иосифович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 1 (48), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается историко-литературный этюд Томаса Манна «Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма» (1921- 1932) - выразительный пример немецкой эссеистики ХХ в., последняя отчаянная попытка возрождения гуманистической традиции накануне нацистского переворота. Интерпретируя факты личной и литературной биографии Толстого на фоне жизни и творчества Гете, Т. Манн отнюдь не стремится к научной объективности. Его книга - не научное исследование, а образец синкретической философской прозы, в которой эмпирический материал проецируется на бытийные универсалии, а идея как принцип изображения сливается с художественной формой. Толстой и Гете (как и контрастная пара Шиллер - Достоевский) получают у Т. Манна функцию «personnages conceptuels» (G. Deleuz, F. Guattari), обеспечивающих развитие авторской мысли. Имена исторических личностей, которые они носят, в значительной степени условны, их связь не теснее, чем связь между литературным героем и его реальным прототипом. Искусство психологического портрета, яркие повествовательные эпизоды, парадоксальность философской аргументации, своевольная интерпретация обильных цитат - все служит Т. Манну средством создания художественно-идеологической конструкции, преобразующей антитезу варварской России и цивилизованной Европы в сверхнациональный миф о западно-восточном культурном синтезе. Как показано в статье, несущим элементом этой конструкции является неохристианство Д.С. Мережковского, в котором Т. Манн узнает наследие классической немецкой культуры. Идейная встреча Т. Манна с Мережковским происходит в общем методологическом поле, отграниченном, с одной стороны, от традиционного историко-генетического изучения литературных фактов, с другой - от филологического анализа текста как чистой художественной формы. Подобно Мережковскому, Т. Манн видит свою задачу в создании целостного образа творческой личности художника, представляющей собой сплав его личных биографических переживаний и эпохального чувства жизни, поэтики его произведений и духовного опыта их толкователя.
Гений, герменевтика, гуманизм, концептуальный персонаж, миф, революция духа, русская идея, синтез, утопия, эссе
Короткий адрес: https://sciup.org/149127134
IDR: 149127134 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00021
Текст научной статьи Немецко-русская утопия Томаса Манна ("Гете и Толстой")
Эссе Томаса Манна «Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма» (1925; окончательная редакция - 1932) представляет собой развернутую версию доклада, который его автор читал на немецко-скандинавском форуме 1921 г. в Любеке. [Mann 2002, 45-84; 313-314]. Как показывают подготовительные материалы к любекскому докладу [Koelb 1984], из русских источников Т. Манн опирался на мемуары П.И. Бирюкова (1905; нем. 1906-1908), очерк Максима Горького «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом» (1919; нем. 1920) и, прежде всего, на получившую широкое распространение в Германии книгу Д.С. Мережковского «Толстой и Достоевский» (1900-1902; нем. 1903) с ее противопоставлением «ясновидца плоти» Толстого «ясновидцу духа» Достоевскому.
Развертывая эту антитезу, Т. Манн дополняет Мережковского Шиллером, который в большой статье «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795) различает два типа творчества, проистекающие из различного отношения к природе: «Поэт или является природой или тоскует по ней и ее ищет» [Schiller 1909, 127]. Гете олицетворяет для Шиллера первое, сам он - второе. Т. Манн прямо называет статью Шиллера в числе своих источников и, удваивая сравнение, вводит контрастную пару. Одна пара - Гете и Толстой - баловни природы, ее дети, плоть от плоти ее, недоступные и загадочные как боги, другая - Шиллер и Достоевский - одухотворенные мученики невоплощенной еще идеи, неудовлетворенные собой и миром, родные и понятные каждому, с каждым связанные братски-участливой солидарностью страждущих, обреченных, взыскующих спасения.
По мысли Т. Манна, гениальный художник, как наивный, так и сентиментальный, страдая от своей односторонности и тоскуя по противоположному дару, живет и творит в предчувствии высшего синтеза. «Торжественная встреча природы и духа, страстно стремящихся друг к другу» [Mann 1955, X, 238] - таков бессознательный идеал, смутно предчувствуемый гениальным художником, какой бы тип творчества он ни представлял. Все драматические коллизии, определяющие в книге Т. Манна жизнь и творчество ее героев, изображаются им на фоне грядущего синтеза, которому и предстоит стать решением проблемы гуманизма: «Тоска детей духа по природе, детей природы по духу свидетельствует о том, что цель, стоящая перед человечеством, - это высшее единство, и человечество окрестило его собственным своим именем - humanitas» [Mann 1955, X, 272].
К решению проблемы гуманизма Гете и Толстой движутся, согласно Т. Манну, различными путями. Начиная с главы «Природа и нация», образ Толстого все больше смещается в смысловое пространство «азиатской России», в область «могучей и варварской стихии Востока» [Mann 1955, X, 230]. Несколько раз, как лейтмотив, возникает на страницах эссе Т. Манна заимствованный им из очерка Горького о Толстом образ «языческого славянского бога, восседающего на кленовом престоле под золотой липой» [Mann 1955, X, 163; 230; 235]. Богатырская сила, первобытная и преизбыточная, необоримая чувственность, мудрость древнего волхва, дарованная таинственной связью сына природы с органическим миром и вызывающая «мистическое благоговение» [Mann 1955, X, 218] - таков круг мотивов, в котором Т. Манн замыкает свой стилизованный образ Толстого.
Обаяние экзотического варварства, которое он в себе несет, прочувствовано и выражено Т. Манном с дистанции, отделяющей от него человека поздней европейской культуры, пресыщенной своими собственными богатствами и завороженной видениями гибели в «тяжелых нежных лапах» грядущих скифов. От восхищения Т. Манна Толстым веет декадансом, но одновременно оно подсвечено и европейским высокомерием. Как и многие его современники, Т. Манн исходит из убеждения в том, что славянству осталась чуждой классическая античная традиция, что оно не было ею облагорожено. В Германии эта идея высказывалась целым ря- дом мыслителей, сделавших предметом своих размышлений отношения России и Запада [Lehmann 2015, 91-94]; в России реакцией на нее стала влиятельная в свое время нео-славянофильская концепция «Третьего Возрождения», представленная у Фаддея Зелинского, Вячеслава Иванова, Иннокентия Анненского, Сергея Соловьева, а позднее и у Бахтина [Грюбель 2015, 123-141].
Отрешенность Толстого от классических источников европейской духовности явилась, по Т Манну, причиной того, что все его попытки преодолеть свою зависимость от природы оборачиваются шутовским маскарадом и трагическим самообманом. Сквозь его «одухотворенную святость» продолжает просвечивать «плотский анимализм» [Mann 1955, X, 225], его отказ от художественного творчества во имя нравственного самоусовершенствования оборачивается изменой самому себе, его жажда религиозного отречения и анархическая критика общества остаются свидетельством кризиса современной культуры, но не становятся орудием ее преобразования. Вскоре после Т. Манна и, быть может, не без его влияния так же писал о Толстом в статье «Толстой как мыслитель и художник» С .Л. Франк [Frank 1933, 65-95].
Толстовская революция духа не порождает, с точки зрения Т. Манна, синтетического феномена одухотворенной природы, лишь обнажая исходную антитезу. Различие между Гете и Толстым Т. Манн видит, прежде всего, в том, что Гете классического периода не просто отрицает чувственно-телесную природу своей гениальности, а пресуществляет и сублимирует ее в художественном творчестве как творчестве жизни. Природа, плоть мира не есть для него что-то грешное и дьявольское, низменное и скотское, как для позднего Толстого с его антитезой «грешная плоть - бесплотная святость». Гете знает, что дух есть не только отрицание низшего, но и утверждение высшего состояния плоти, что возможна святая плоть [Mann 1955, X, 238].
Гете значит для Т. Манна больше, чем Толстой, и хотя последняя редакция эссе создавалась накануне фашистского переворота, основным социально-политическим фоном, на котором получает развитие тема их неравенства, продолжают оставаться, как и в докладе 1921 г, события русской революции.
О Толстом как пророке русской революции писали в двадцатые годы много и страстно. Все писавшие сравнивали Толстого с Руссо, видя в том и другом идеологов надвигающейся революции, а революцию воспринимали под знаком отрицания лживой культуры и возврата к природе. «Большевизм - зверство, - пишет в статье «Толстой и большевизм» Мережковский, - но когда я читаю Руссо, мне хочется, следуя злой шутке Вольтера, встать на четвереньки и убежать в лес. Глядя на большевиков, всей Европе захотелось в лес. От Руссо к Толстому растет и ширится воля к дикости, к варварству, и Европа стоит на краю бездны» [Mereschkowskij 1921, 195]. Т. Манн разделяет этот взгляд на Толстого. Идеолог анархии, Толстой является, по Т. Манну пророком большевистской революции, которая не только отменила европейский путь развития России, предуказанный ей Петром Великим, но и взорвала символический порядок старой Европы, положила конец всей эпохе «бюргерского гуманизма» [Mann 1955, 263-266].
В контексте творчества Т. Манна анархист Толстой, бунтующий против Петра, предвосхищает композитора-анархиста Адриана Леверкюна, стремящегося своей авангардистской музыкой отменить «Девятую симфонию» Бетховена - символ европейского гуманизма. Так же, любя и запрещая себе любить, отвергает музыку Бетховена и Толстой, о котором у Т. Манна читаем: «Рассказывают, что когда он слушал музыку, то бледнел от страха. Но без музыки он жить не мог» [Mann 1955, X, 190]. Примечательно, что Бетховеном заслушивался и Ленин, и, заслушиваясь, испытывал, по свидетельству Горького, почти толстовское чувство - чувство запретной любви, смешанной со страхом, что не выдержит искушения [Горький 1979, 169]. У Т. Манна, посвятившего Ленину небольшую, но выразительную заметку («О Ленине», 1924) [Mann 2002, 228], эта параллель отсутствует, но она бы соответствовала ходу его мыслей.
Музыка революции, которую призывал слушать Блок, противопоставляя ее гуманистической культуре Запада и русской интеллигенции, - это музыка не Бетховена, а Леверкюна, музыка разрушения, оправданная по Ницше и Бакунину: “Die Lust der Zerstorung ist auch eine schaffende Lust” («Страсть разрушения есть также творческая страсть») [Bakunin 1001]. Статья Блока, написанная в 1919 г, незадолго до первого варианта эссе Т. Манна, называется, как известно, «Крушение гуманизма».
Именно крушение гуманизма знаменует, по Т. Манну, русская революция - того гуманизма, который зародился, как он пишет, в эпоху Возрождения, победил в эпоху Французской революции и был неразрывно связан с интересами третьего сословия, с принципом свободы личности, политическим либерализмом и демократической формой государства [Mann 1955, X, 265-266]. Уязвимость европейского гуманизма заключается, с точки зрения Т. Манна, в том, что он остановился в своем развитии, стал лживой нормой и мертвой догмой. Буржуазная Европа опошлила, профанировала идею гуманизма, изгнав из культуры дионисийскую стихию разрушения и обновления, воспетую Ницше.
«Большевистский» радикализм Толстого, его болезненный разрыв с природой и форсированная святость рассматриваются Т. Манном как свидетельство кризиса профанного гуманизма, воли к его ресакрализации и метафизическому оправданию. «Я могу понять, - пишет он, - почему юность выбирает Москву, а не Рим» [Mann 2002, 83], те. выбирает революционный протест против тех ценностей западной культуры, которые на длинном пути от античности к XIX в. трансформировались настолько, что Ницше и Флобер, Герцен и Вл. Соловьев, Ибсен и Бернард Шоу задохнулись от ненависти и отвращения к торжествующему мещанству.
Но красная, большевистская Москва, отождествленная Т. Манном с толстовским «царством духа», представляется ему такой же ложью и самообманом, как и фальшивая святость русского гения Толстого, изменив- шего своему призванию. И Москве, и Риму Т. Манн противопоставляет Веймар, символ немецкой идеи и первообраз будущей чаемой Германии -«Германии нашей надежды» [Mann 2002, 83]. Надежда, воплощенная в личности и творчестве Гете, сбудется, по Т. Манну, тогда, когда Германия станет его достойной наследницей.
В двадцатые годы имена «Веймар» и «Гете» употребляются Т. Манном как синонимы, обозначающие немецкую национальную идею, но парадокс заключается в том, что эта немецкая идея формулируется Т. Манном в свете идеи русской и с прямой ссылкой на русского автора - Д.С. Мережковского, которого он ценит настолько высоко, что в предисловии к «Русской антологии» 1921 г. называет его «самым гениальным критиком и психологом мирового класса со времен Ницше» [Mann 1955, XI, 576]. Опровергая одного русского - Толстого, Т. Манн берет себе в союзники другого - Мережковского.
Повышенный интерес Т. Манна к Мережковскому не раз привлекал внимание его исследователей [Heftrich, 71-79], но книга «Гете и Толстой» примечательна тем, что идейная встреча немецкого писателя с Мережковским получает здесь дополнительную методологическую мотивировку.
Одним из центральных признаков, по которому Т. Манн сближает Гете и Толстого, служит подчеркнутый автобиографический характер творчества того и другого, явная и осознанная самими авторами связь литературных фактов с фактами внутренней биографии, личной и социальной. Для Т. Манна этот признак чрезвычайно важен, и он вводит его уже в самом начале своего эссе, когда, напомнив читателю известное признание Гете из «Поэзии и правды» - «Все мои произведения - лишь отрывки одной большой исповеди», - тут же сопоставляет его с наблюдением Мережковского, писавшего, что все художественные произведения Толстого есть, «в сущности, не что иное, как один огромный дневник, одна бесконечная, широко развернутая исповедь» [Mann 1955, X, 167].
Подчеркивая роль автобиографических переживаний, Т. Манн, как и Мережковский, вступает в противоречие с методологией XX в., которая все решительнее отказывается видеть в произведениях писателя лишь свидетельства его душевной жизни, пусть и отразившие сознание эпохи, все явственнее переносит центр тяжести с личности автора на тексты его произведений, выявляя в них следы безличных структур языка, жанра, дискурса. По отношению к Мережковскому влияние этой тенденции ощутимо уже в ранней статье Б.М. Эйхенбаума «Мережковский-критик» [Эйхенбаум 1915,134].
Между тем, ни у Мережковского, ни у Т. Манна внимание к личности автора отнюдь не подменяет осмысление его произведений наивной психологической индукцией, сводя творчество к психологическому документу, обусловленному биографическим переживанием как причиной. Переживание творческой личности не есть для них сырой материал, внешний и независимый от творчества. Подобно Дильтею [Dilthey 1907] и Гундольфу [Gundolf 1920], они исходят из того, что переживание художника, вобрав- шее в себя чувство жизни его эпохи, изначально преображено его творческой волей и находится в нерасторжимом единстве с его творчеством. Чем интенсивнее творческие силы художника, тем полнее «воображает» он то или иное событие одновременно и в реальность своей жизни, и в реальность своих произведений. Так рождается автобиографический миф гения [ср. Магомедова 2013, 7-22], на основе которого критик, актуализируя его в свете своего личного и исторического опыта, создает миф во второй степени - целостный образ поэта, его «гештальт» (Гундольф).
Логическим следствием этой общей для Т. Манна и Мережковского методологической установки является принцип подчинения эмпирического материала философской конструкции, которой придается идеологическое и политическое значение. Последний абзац последнего фрагмента эссе Т. Манна почти буквально воспроизводит пассаж из книги «Л.Толстой и Достоевский», где Мережковский оглашает тайну грядущего соединения бездуховной плоти и бесплотного духа. Их синтез - одухотворенная плоть или воплощенный дух - будет преодолением векового дуализма язычества и христианства, земли и неба, человека и Бога: земля станет небесной, небо земным, а человек - богочеловеком [Mereschkowskij 1903, 300].
Идея «Третьего Царства», определившая все творчество Мережковского, в том числе и концепцию его книги о Толстом и Достоевском, опирается, как известно, на многовековую традицию европейской культуры; через Ибсена и Ницше, Гейне и Новалиса, Шиллера и Лессинга она уходит своими корнями в средневековую мистику. Однако Мережковский был убежден и убедил своих западноевропейских читателей в том, что законная наследница и естественная среда этой идеи в XIX в. - культура русская, и Т. Манн это убеждение разделяет. Заканчивая свое эссе, он прямо ссылается на Мережковского: «Некий ум с Востока рано узрел медленно разгорающийся свет новой веры. Дмитрий Мережковский утверждает, что в земном человеке заключен и человек-животное и человек-бог. Человечество еще не постигло сущности телесно-духовного, животно-божественного» [Mann 1955, X, 272].
Проблема гуманизма будет решена, как пишет Т. Манн, когда-нибудь, когда наступит «Третье царство» и будут преодолены все противоречия современной культуры, в том числе и противоречие между Востоком и Западом, Россией и Европой. Когда небо станет земным, а земля небесной, человек богом, а бог человеком, то и Восток станет Западом, а Запад Востоком, Россия станет Европой, а Европа Россией. Как это «Третье царство» будет называться, не так важно. Мережковский думает, что оно будет называться Россией, Т. Манн - что Германией, но и у того, и у другого провозвестницей грядущего преображения выступает личность гениального художника - «безмерно любимый образ совершенной человечности» [Mann 1955, X, 273].
Список литературы Немецко-русская утопия Томаса Манна ("Гете и Толстой")
- Горький М. В.И. Ленин // Горький М. Собрание сочинений: в 16 т. Т. 16. М., 1979. С. 135-175.
- Грюбель Р. «Третий Ренессанс» как концепт «другого модерна» // Wiener Slavistischer Almanach. 2016. Bd. 76. S. 123-141.
- Магомедова Д. Александр Блок: биография и поэтика в свете автобиографического мифа. Siedlce 2013. (Opuskula slavica sedlcensia. T. V / red. R. Mnich, R. Bobryk).
- Эйхенбаум Б. Мережковский-критик // Северные записки. 1915. № 4. С. 130-138.
- Bakunin M. Die Reaktion in Deutschland. Ein Fragment von einem Franzosen // Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst. 1842. № 247-251. S. 985-1002.
- Deleuz G., Guattari F. Qu’ést-ce que la philosophie? Paris, 1991.
- Dilthey W. Das Erlebnis und die Dichtung. Leipzig, 1907.
- Frank S. Leo Tolstoj als Denker und Künstler // Zeitschrift für Slavische Philologie. 1933. Bd. X. Doppelheft ½. S. 65-95.
- Gundolf F. Goethe. Berlin, 1920.
- Heftrich U. Thomas Manns Weg zur slavischen Dämonie // Thomas MannJahrbuch. 1995. Bd. 8. S. 71-91.
- Koelb C. (Hg.). Thomas Mann's "Goethe und Tolstoy": Notes and Sources. University, Ala., 1984.
- Lehmann J. Russische Literatur in Deutschland. Ihre Rezeption durch deutschsprachige Schriftsteller und Kritiker vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Stuttgart, 2015.
- Mann Th. Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Berlin, 1955.
- Mann Th. Essays. 6 Bde / Hrsg. v. H. Kurzke u. S. Stachorski. Bd. II. 1914- 1926. Frankfurt am Main, 2002.
- Mereschkowskij D.S. Tolstoj und Dostojewski als Menschen und Künstler. Eine kritische Würdigung ihres Lebens und Schaffens / Deutsch von Carl von Gütschow. Leipzig, 1903.
- Mereschkowskij D.S. Tolstoj und Bolschewismus // Mereschkowskij D. [et al.]. Das Reich des Antichrist. Russland und der Bolschewismus. München, 1921. S. 191- 198.
- Schiller F. Über naive und sentimentalische Dichtung // Schillers Werke. Vollständige Ausgabe in 15 Teilen / Hrsg. von A. Kutscher. Th. VIII. Berlin; Leipzig; Wien; Stuttgart, 1909. S. 105-191.