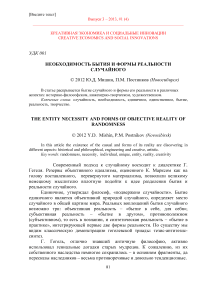Необходимость бытия и формы реальности случайного
Автор: Мишин Юрий Дмитриевич, Постников П.М.
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Социальные и психологические исследования
Статья в выпуске: 1 (4), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается бытие случайного и формы его реальности в различных аспектах: историко-философском, инженерно-творческом, художественном.
Случайность, необходимость, единичное, единственное, бытие, реальность, творчество
Короткий адрес: https://sciup.org/14238950
IDR: 14238950 | УДК: 001
Текст научной статьи Необходимость бытия и формы реальности случайного
Современный подход к случайному восходит к диалектике Г. Гегеля. Резервы объективного идеализма, оцененного К. Марксом как на голову поставленного, перевернутого материализма, позволили великому немецкому мыслителю вплотную подойти к идее разделения бытия и реальности случайного.
Единичное, утверждал философ, «подвержено случайности». Бытие единичного является объективной природой случайного, определяет место случайного в общей картине мира. Реальных воплощений бытия случайного возможно три: объективная реальность – «бытие в себе, для себя»; субъективная реальность – «бытие в другом», противоположном (субъективном), то есть в познании, и синтетическая реальность – «бытие в практике», интегрирующей первые две формы реальности. По существу мы видим классическую демонстрацию гегелевской триады: тезис-антитезис-синтез.
Г. Гегель, отлично знавший античную философию, активно использовал гениальные догадки старых мудрецов. К сожалению, из их собственного наследства немногое сохранилось – в основном фрагменты, да пересказы наследников – весьма противоречивые и довольно тенденциозные.
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Толкование случайного первыми философами содержало ценные и перспективные идеи, как частного, так и мировоззренческого характера. В них отражено конкретное историческое время, своеобразие культурного осмысления рождения западной цивилизации. Разумнее поэтому не искать им местоположение в философских построениях Нового и Новейшего времени, а рассматривать в контексте культурной современности эпохи рождения философии в качестве еще одной базовой формы развития культуры, расширения и интеграции культурного пространства развивающегося человечества.
Сказав: «Все есть одно», Фалес не столько сделал знаковое открытие, сколько открыл «ящик Пандоры», – проблемы посыпались одна за другой. Прежде всего, появился вопрос: как из одного возникает качественно разнообразное множество? Не менее актуальной явилась и проблема различия внутри множества, образующего данное качество. Почему единичное единственное в своем роде?
Мифология и религия не были обременены необходимостью логически объяснять свои представления. Вещи и порядок, существующий в вещах, они объясняли интересами богов и духов. Мудрецы, когда было нужно, прибегали к метафорам, сравнениям, неопределенным высказываниям. Философы, сделавшие ставку на логичность, обоснованность, вынуждены были искать рациональное истолкование проблем.
Бытие всеобщего необходимо по определению. В нем объективно заложено и основание любого единичного. Единичное обретает реальность автономного существования только в качестве единственного. Чтобы это произошло – случилось, нужно выйти за пределы необходимого, точнее, достроить необходимое случайным.
Необходимость заложена в движении бытия, случайность обусловлена необходимостью связей, отношений в движении, создающих совпадения, пересечения. Единственное – конкретная форма реальности единичного.
Реальная возможность единичного переходит в реальное существование единственного благодаря условиям, создающимся взаимодействием явлений. Именно в таком сочетании условий и рождается случайное, трансформирующее движение от возможности единичного в действительность единственного с последующей диверсификацией форм его реальности.
Разделение бытия и реальности единичного – идея не оригинальная. Суть не в оригинальности мысли, а в современной ценности ее. Постановка проблемы в прошлом была абстрактно-мировоззренческой, в XXI веке интерес к случайному приобрел конкретно-историческую определенность. Актуальность логическая переросла в историческую. Проблема 82
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS философского масштаба разрослась до социокультурной значимости. Причин актуализации случайного несколько. Особо следовало бы выделить успехи научного познания и социльно-экономического прогресса.
Случайное долгое время – на всем протяжении истории классической науки – ассоциировалась с хаотической формой существования, по существу противопоставлялось закономерно изменяющейся реальности, что не оставляло случайному места в границах научной предметности. Абсолютизация необходимого доходила до абсурдного, но вполне понятного вывода о том, что «наука – враг случайного».
Специфика отношений в макромире подталкивала к подобной логике мышления, диалектический же подход к миру и познанию находился в состоянии становления. Доказательства его преимущества только накапливались. Философия обогатила науку. Философы лучше ученых использовали свой шанс опираться в суждениях на диалектические резервы мышления в толковании открытий науки. Раньше увидели диалектику бытия и осознали необходимость по-новому посмотреть на рациональность, отказаться от «механистического», упрощенного понимания истины, противоречащего диалектической природе движения мира.
Наука, победив натурфилософию, очистившись от привнесенных ложных идей, не сумела своевременно среагировать на философию науки и адаптировать вполне здравые и передовые идеи философов-современников. А без разработки диалектики сущности и существования невозможно было разобраться в диалектике общего и единичного, единичного и единственного, необходимого и случайного. Взаимоотношения бытия и реальности случайного – ключ к современному учению о природе и значении случайного в развитии.
Понятие «случайное» системно связано с понятиями «единичное», «единственное», «единое». Они выводят нас на горизонты существования сущности как бытия реальности. В «едином» выражена идея субстанциональности существующего – бытия. «Бытие», как сущность всего и каждого, подтверждает необходимость единичного в качестве способа непосредственного воплощения бытия. «Единичное» служит вербальным закреплением логической реальности существования единого – всеобщее реализуется через единичное.
Само «единичное» при этом остается абстрактной формой объективной закономерности. Единичное должно пройти испытанием отношений – условий, – образующихся не только закономерно, но и «по конкретному», случайному раскладу, чтобы обрести конечную конкретную реальность в виде «единственного» единичного.
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Классическое суждение «Иван – человек» иллюстрирует формальное взаимоотношение «общего» и «единичного». «Иван» реально не существует также, как и «человек». «Человек» реализуется в «Иване» – это так, однако сам «Иван» остается формализованной реальностью – в одном строю понятий вместе с «человеком». Изменяется всего лишь уровень абстракции.
Конечной реальностью, предметно существующей в конкретном времени-пространстве, является исключительно «единственное» – «Вот этот Иван здесь и сейчас». И конечная форма «этого Ивана» раскрывает природную необходимость случайного. Случайное есть конкретность единственного, создаваемая диалектикой развития мира и его познания человеком.
Г. Гегель правомерно связал случайное с единичным. Вместе с тем в его концепции случайного нет желательной определенности в толковании пары «единичное – единственное». Такое впечатление, что он довольствовался выяснением диалектики «общего» и «единичного», не стал разрабатывать диалектику «единичного» и «единственного», оставив конкретизацию этих понятий своим последователям, либо, в качестве версии, посчитал «единственное» проблемой частного знания.
Применительно к истории классической науки, специфической для нее эпистемологии, и уровню развития общественной практики Нового времени, акцентированный интерес к первой паре выглядит закономерно. Гегелевская диалектика продолжала линию диалектических открытий старой философии, модернизировала, логически конструировала прежние идеи, очищала их от схоластических и мифологических наслоений, опосредованно воспроизводила диалектику природы.
Выстроенная Гегелем диалектика оставалась теорией восхождения понятий. В мир понятий, отражающих в сознании сущность явлений действительности, уже «единичное» не вписывается органично, полномерно, ибо единичное ближе к области чувственно-конкретного. Тем более «единственное» – действительная форма бытия единичного.
«Единичное» – противоположность «общего», отрицание общего в частном. «Единственное» – способ реализации, овеществления, индивидуализации в конкретных пространственно-временных условиях бытия единичного. Единственность единичного создается случайным распределением необходимости бытия отдельного. Познание чаще всего начинается с описания «единственного», продолжается открытием «единичного» и стремится объяснить его общую природу, установить системное положение.
Возьмем для примера, «дурную» бесконечность, образованную повторением одного и того же числа. В таком ряду представлено единичное 84
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS число: 1, 1, 1, 1, 1,… и т.д. Формально между такими числами отличия отсутствуют – они формально все «единичные» и противостоят «общему» – бесконечности объединяющего ряда. Если арифметически здесь налицо абсолютное тождество чисел, то системно каждое из повторяющихся – единичных – чисел следует рассматривать как «единственное». Основанием подобного заключения служит местоположение числа в общем ряду. Взятые в определенной последовательности, а в реальных предметных отношениях речь идет о конкретности пространственно-временных координат, повторяющиеся числа из единичного переходят в разряд единственных.
«Общее», «единичное» и «единственное» различаются формами реальности, меняющимися в зависимости от этапа восхождения «абстрактного» к «конкретному». Суть происходящих перемен надо искать в свойствах, определяющих содержание и объем понятий, степени совпадения факта сознания с действительностью отраженного явления. «Общее» закрепляет в мышлении универсальные свойства явлений. В сознании реальность «общего» – в определении явления. Вне сознания реальность «общего» – это наличие обязательных видовых свойств, свидетельствующих о системном статусе явления. Самостоятельным, автономным существованием такие свойства не обладают, их реальность в мире явлений действительности условная, зависимая.
Понятие «единичное», в отличие от «общего», воспроизводит не свойства, а само явление действительности, подтверждает факт его самостоятельной реальности. Однако форма объективной реальности «единичного» также условна. В ней явление представлено вне пространственно-временной конкретности его бытия. Констатируется отдельность явления, но отсутствует конкретность описания, обусловленная динамикой бытия единичного в случайно-необходимых обстоятельствах развития. Реальность «единичного» можно определить как условноцелостную и обобщенно-автономную.
Условность бытия «общего» и «единичного» снимается в реальности «единственного». Только «единственное» способно существовать без условно оговариваемых ограничений и в сознании, и в действительности. «Единственное» является конечной формой реальности восхождения «общего» к «частному», «абстрактного» к «конкретному». «Единичное» создает внешний каркас бесконечного многообразия мира, «единственное» позволяет понять многообразие в глубь, раскрывает развитие «единичного».
Целесообразно определять «единичное» как суммарную характеристику единственных состояний в развитии явлений. Обобщенный взгляд на смену «единственного» способствует пониманию вектора и
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS траектории изменений, обеспечивает благоприятные условия конкретности истинного понимания происходящего в мире.
А.С. Пушкин хорошо знал историю России. Тем не менее, он посчитал и свои знания, и публикации серьезных исследователей (Татищева, Карамзина) недостаточными, предприняв собственное обстоятельное изучение исторического наследства, когда решил писать книгу, посвященную Петру I, петровским реформам, превратившим допетровскую Русь в Россию. Писателю необходим был «живой» – мыслящий, чувствующий, творящий Петр в движении идей, планов, действий. «Единичное» – Петр I – А.С. Пушкина мало устраивало, поэтому он погрузился в архивные документы. По-другому «оживить» первого отечественного императора писатель не мог. Надо было проследить пошагово жизненный путь, перемены в сознании, настроении, чтобы создать образ единственного человека, а не одного, единичного, отдельно существующего.
Личность формируется в обстоятельствах жизни, они особым образом отражаются в ее мировоззрении, деятельности, поведении, обусловливают историю личности. В итоге мы имеем отдельное бытие личности в условно фиксированном диапазоне исторического времени и два оценочных подхода: формальный и содержательный. Первый характеризует обобщенный факт, второй прослеживает процесс рождения факта, дробит процесс на жизненно значимые этапы, представляя единственность каждого из них. Первый – синтетический, второй – аналитический. Они не исключают, а дополняют друг друга.
По-видимому, значение «единственного» в понимании действительных изменений в мире интуитивно прочувствовали деятели искусства. Классические формы художественной литературы сложились именно в связи с необходимостью проследить историю «героев», показать формирование личности в изменяющихся обстоятельствах жизни. Жизненную траекторию основных действующих персонажей прокладывали через судьбы попутчиков – случайных и не случайных, нередко принося последних в жертву, останавливая их в ранге «единичных», то есть без развития в интересах главного лица повести романа. Важно было получить в итоге «единственного» героя.
Начиная работать над «Евгением Онегиным», А.С. Пушкин писал:
«И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал».
Автор не лукавил, хотя наверняка уже представлял своего героя как уникального персонажа. Мысли великого писателя были скованы общностью образа, не доставало временной и событийной конкретности жизненного 86
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS пространства Евгения Онегина. Первоначально в своем сознании А.С. Пушкин «вылепил» из характерных для исторического времени черт оригинальной личности образ молодого человека; далее образ – «единичное» – нужно было «оживить», провести Онегина по ступеням реальной российской действительности от столичных дворцовых лестниц до местечковых патриархальных дворянских гнезд, отправить нарушителя спокойного уклада периферийной реальности заграницу, вернуть обратно, чтобы убедиться самому и показать читателям, что действительного отрицания не случилось. Онегин постарел, но не поумнел. По существу, как личность, герой романа остался собою, то есть «единичным».
В то же время на протяжении всего действия романа мы видим разного Онегина. Онегин в качестве единичного явления складывается из множества Онегиных. Объективно только эта сумма «единственных» Онегиных реальна в автономном значении. Это действительная реальность конкретного человека, а не свойств, присущих личности.
Автономная реальность единственного осуществляется через случайное. Единичные преимущественно пересекаются случайно или в комбинации необходимого со случайным. Так происходит и в действительности, и в реальности творческого процесса. По этикету Онегину следовало нанести визит помещикам, соседствующим с Ленским, но говорить о необходимости подобного жеста, долге отметиться вряд ли правомерно.
«Единственное» – это объективно реальное основание того, что логические позитивисты назвали «атомарным предложением». Разумеется, они не тождественны между собою, не совпадают по природе и форме существования. Нам хотелось данным сопоставлением показать конечную зависимость логических находок в философии науки от действительности, эссенциального порядка, находящейся за скобками чувственного мышления.
Случай играет заметную роль в научном и инженерном творчестве, в профессиональной судьбе личности, настроенной на творчество. Случайное действие, включение его в ход события заставляет сменить маршрут творческого процесса, служит неожиданной подсказкой способа решения проблемы, формирует проблемный характер мышления.
Силы взаимодействия крыла самолета и воздушных потоков открыл и описал Н.Е. Жуковский – основоположник аэро- и гидродинамики. Однако и такой признанный ученый, инженер не избежал отрицательного эффекта строго упорядоченного движения мысли по наезженной колее, попал в зависимость от им же самим разработанного стереотипа понимания полета тел тяжелее воздуха. Н.Е. Жуковский очень любил живую природу, всегда при случае искал в ней ответ на сложные технические и теоретические 87
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS вопросы; как педагог, использовал примеры из жизни живых существ для иллюстрации своих идей. Согласно научным представлениям Н.Е. Жуковского для взлета самолета обязательно требовалась площадка – взлетная полоса. Взлететь иначе, считалось невозможным. Чтобы показать верность постулата, ученый принес в аудиторию к студентам птичку в клетке. Птичку поместил в высокую стеклянную колбу и предложил понаблюдать за ее действиями, абсолютно уверенный в том, что птица не сможет вылететь на волю – нет площадки для разбега.
Присутствующие, несмотря на предсказанную бесполезность, внимательно следили за движением пленницы, и в начале прогноз ученого сбывался, казалось, у птицы нет никаких шансов вырваться на свободу. Только птичка «думала» не как все. Освоившись в новой для себя обстановке, успокоившись, она стала ввинчиваться, двигаясь по спирали, в колбу и после недолгих упражнений оказалась на воле к великому недоумению наблюдателей. Впрочем, замешательство Н.Е. Жуковского быстро сменилось смехом. Рассмешила устроителя опыта собственная недогадливость – «неученая птичка» подсказала «ученому инженеру» новую возможность взлета, позволяющую при необходимости подниматься в небо с минимальных площадок, без разбега. Открылось еще одно направление в развитии авиационной техники, а вместе с ним расширилось приложение научных исследований.
Роль случайного в жизни другого нашего знаменитого соотечественника, также штурмовавшего небо, А.Ф. Можайского была, можно сказать, противоположного свойства. Случайности помогли адмиралу до конца сохранить веру в успех дела, которому он принял решение служить после ухода в отставку. Но и здесь выиграл технический прогресс.
Академик А.Н. Крылов в опубликованных воспоминаниях не без юмора рассказал о том, как творец самолета работал над своим детищем. Эксперименты А.Ф. Можайский начинал со строительства «воздушных змеев» согласно проделанным еще на морских просторах расчетам. «Змеи» были гигантских размеров, чтобы поднять их в воздух запрягали тройки лошадей. Пробег, подскок и приземление отличались жесткостью. Не единожды испытатель ломал ноги, руки, сильно ушибался. Эксперименты прерывались на лечение. А.Ф. Можайский передвигался, опираясь на «здоровенную дубину». Тем не менее, сомнений в успехе предприятия у конструктора не становилось больше. А.Ф. Можайский видел причину своих неудач в различного рода случайностях и верил в победу.
Оценивая причины неудач как случайные, он укреплял свою волю. В действительности ему мешали не случайности, имевшие место, а отсутствие знания аэродинамики. Их попросту в то время еще не открыли.
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Здесь мы встречаемся с позитивным психологическим эффектом заблуждения относительно места и значения случайного. Творчество проверяет личность на волю. Без веры в способность решить проблему, проблему не решить. Списывать неуспех на случайность, творчество в принципе допускает. Запрет накладывается на подчинение творческого поиска случайному сопровождению. Случайность, словно сортовое семя, дает всходы и урожай исключительно в подготовленной почве. Случайное надо увидеть и понять. Для этого нужно иметь наметанный глаз и нацеленный ум, то есть должна быть профессиональная исследовательская готовность «не пройти мимо знаков судьбы». Сошлемся на опыт инженерного творчества наших менее именитых соотечественников.
Металлургам хорошо известно имя М.К. Курако. Академик И.П. Бардин – мировой авторитет в науке о металлах и получении их в плавильных печах утверждал безапелляционно: «Я, наверное, стал бы заурядным человеком, незначительным чертежником, обывателем, каких были тысячи… Встреча с Курако совершила переворот во всей моей жизни. Курако оставлял глубокий след во всяком, кому приходилось с ним работать». Случай решил судьбу и самого М.К. Курако. Доменную печь он случайно увидел на Брянском заводе. Случайная встреча определила судьбу и приобрела судьбоносное значение для отечественного металлоплавильного производства. В ту пору им управляли в основном иностранные специалисты, своих готовили недостаточно.
М.К. Курако не получил инженерного образования, учился на рабочем месте у американцев, позже – французов. Ученик вскоре обогнал сообразительностью учителей, с его мнением стали считаться, советовались по необходимости. Но утвердиться в деле Курако опять-таки помог случай. У доменной печи вырвало часть стены. Рабочие вместе с мастером в ужасе разбежались – испугались взрыва. На месте остался только Курако. Он единственный сохранил хладнокровие в «горячей обстановке», действовал умно и оперативно. Печь покорилась настоящему мастеру.
Спустя несколько дней случай вновь испытал М.К. Курако на профессиональную зрелость. Во время своей смены он заметил расстройство в работе домны и пошел сообщить об инциденте мастеру-американцу. Нашел мастера Курако в близлежащем кабаке. Американец не поверил. Курако разыскал машиниста печи, тоже американца. И здесь ему не поверили. Тогда, используя силу, Курако взял инициативу на себя и предотвратил большую беду. Американские специалисты пожаловались на самоуправство русского рабочего директору – третьему американцу. Тот, выслушав всех, осмотрев производство, отстранил соотечественников от дела, поручив дальнейшую работу печи М.К. Курако. Не так часто встречались толковые и 89
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS принципиальные иностранные специалисты. Курако снова повезло, правда, на этот раз он предстал уже человеком опытным, квалифицированным, что и признал директор. К случайностям подобное везение не отнесешь.
Пример с М.К. Курако показывает, как в практической жизни реализуются отношения «единичного» и «единственного». Американцы – мастер и машинист – «застыли» в профессиональном становлении, достигнув определенного качества. Траектория профессионального развития сделалась фактически параллельной оси качества. «Отдельность», «индивидуальность», «единичность» выражения бытия специалиста консервировались в приобретенных способностях и мотивации. «Единственное», по сути, перестало отличаться от «единичного».
Применительно к такой ситуации говорят о возможности пренебречь различием. Объективно различие сохраняется – реальность «единичного» по-прежнему будет условной, суммарной, но, ввиду отсутствия существенных изменений в реальности «единственного», движение приобретает выражение «дурной» бесконечности с повторением состояний.
В противоположность иностранцам М.К. Курако постоянно прогрессировал, совершенствовал знания, навыки, находился в активном движении, не повторялся. Траектория его движения, как изменения «единичного» через «единственное», выглядит принципиально иначе – имеет восходящее выражение. В восходящем движении значение случая особенно ценно.
М.К. Курако был всегда собою, так как и все, но каждый раз он был другим собой, единственным. Из богатства «единственного» формировалось богатство «единичного». Единичное «обрастало» устойчивыми и многообразными частными признаками, которые приобретали со временем статус признаков обобщенного бытия. Единичное понятие «инженер М.К. Курако» загружалось конкретным содержанием; случайное «снималось», уходило на второй план, освобождая свое место тому, что принято считать логичным, закономерным, внутренне детерминированным следствием. Случай помогал раскрыться личностному потенциалу человека, окружающим убедиться в его творческом отношении к делу, срабатывал в качестве катализатора развития профессиональных способностей.
Сам по себе, в «чистом виде» случай, вероятно, не столь уж значим. Значение связано не столько со случаем, сколько со случайностью. Необходимо случайное рассматривать в контексте развития явления, деятельности, как взаимодействие внешних обстоятельств и внутренней готовности откликнуться на встречу со случаем. Случайность – это случай, превратившийся из факта движения в фактор существования движущегося явления.
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Стремление понять природу и значение случайного, уходящее в начала философии, свидетельствует о важности проблемы. Последующая практическая история человечества актуализировала интерес к случайному и одновременно к идеям, доставшимся нам в наследство. И.В. Гете совсем неслучайно заметил: «Все умное было уже передумано, надо только попытаться это передумать еще раз». Нам хотелось бы, следуя совету И.В. Гете, вернуться к мыслям о природе и реальности факта, случая, ранних греческих философов, первым опытам осмысления диалектики развития мира и его познания человеком.
Прежде всего, хочется подчеркнуть, что уже Гераклит понимал необходимость разделять исследование проблемы случайного на две составляющие. Во-первых, выяснить природу бытия случайного; во-вторых, разобраться с формами реальности, в которых воплощается бытие случайного. В связи с этим философ предупреждал о заблуждении, вызванном абсолютизацией учености. Опасность учености заключается в подмене понимания природы вещей знанием о вещах. «Большинство людей не разумеет того, с чем встречается, – писал Гераклит, – да и научившись, они не понимают, им же самим кажется, [что понимают]» [1, с.43]. Гераклит получил прозвище «темный». Современники часто не понимали высказываний мыслителя, его анализа сущности вещей, допускавшего истинность противоположных суждений: «Все – едино: делимое-неделимое, рожденное-нерожденное, смертное-бессмертное, логос-вечность,…» [1, с.45]. «…Мудрость состоит в том, чтобы говорить истинное и чтобы, прислушиваясь к природе, поступать с ней сообразно, – учил Гераклит и добавлял – природа любит скрываться» [1, с.51-52].
Единичное для Гераклита представлялось выражением всеобщего закономерного порядка, оно вписано в мировой логос как необходимое. Случайное философ толковал в значении неожиданного и пользовался именно этим термином, что дает основание предполагать отрицание им объективности бытия случайного. В природе есть «скрытность проявления». «Скрытность проявления» противостоит истинной природе и в данном смысле оно должно быть объективным, так же как и то, что скрывается за ней. Однако само понятие «скрытое проявление» действительно только в контексте с наблюдателем и своеобразием познающего субъекта: «О значительнейших вещах не будем судить слишком быстро» [1, с.45].
Сознание, по Гераклиту, должно быть настроено на восприятие неожиданного, спрятанного за чувственно воспринимаемым: «Если оно не ожидает неожиданного, то не найдет сокровенного и трудно находимого». Здесь мы встречаемся с двойственным толкованием «неожиданного». «Неожиданное» – это своеобразное проявление логоса-необходимости и сам 91
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS логос, спрятанный за своеобразие проявления. До диалектики «единичного-общего», «случайного-необходимого» было еще очень далеко, но «информация к размышлению» налицо. Гераклит расчищал пути подхода к пониманию бытия случайного.
Проблема природы случайного обострилась, когда Левкипп и Демокрит высказали атомистическую версию построения бытия. Ключевым понятием стало «взаимодействие атомов» – характер столкновений, образующих чувственно воспринимаемые объекты. Аристотель так это комментировал: «Левкиппу и Демокриту, учащим, что первотельца движутся всегда в беспредельной пустоте, надо было бы сказать, каким движением (они движутся) и каково природное движение их» [1, с.60].
Толкования взглядов Левкиппа и Демокрита на характер движения атомов противоречивы. Определенно лишь одно – первые атомисты признавали универсальность причин: «Ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости» [1, с.65]. Диоген Л. пояснял: «Все совершается по необходимости, так причиной возникновения всего является вихрь, которые он [Левкипп (Демокрит)] называет «необходимостью» (ананке)» [1, с.66]. Дионисий придерживается иного мнения: «…Атомы, – говорят они, – носясь как попало в пустом пространстве, случайно сталкиваются между собой вследствие беспорядочного быстрого движения и сплетаются … и таким образом атомы производят и мир и все явления в нем, лучше сказать [производят] бесчисленные миры» [1, с.64].
Концепция Левкиппа и Демокрита открывает новую страницу в постижении природы случайного – она едина с природой необходимого и обусловлена необходимостью универсальности причинно-следственных отношений. Случайное выражает необходимое. «Вихрь» движения делает случайность необходимостью проявлении бытия. Лактанций: «Начинать с того вопроса, который кажется первым по природе: существует ли провидение, которое печется о всех делах, или случайно все сделано и совершается. Основателем последнего учения был Демокрит, защитником [его] Эпикур» [1, с.68]. Таково же мнение Дионисия, епископа Александрийского: «…[Демокрит] считает величайшей мудростью понимание того, что происходит неразумно и нелепо, и признает случайность госпожой и царицей всего вообще и божественного [в частности], и объявляет, что все произошло по ней» [1, с.69].
Абсолютизацию роли случая Демокриту приписывают те представители античной философии, кто признавал разумное начало бытия. Аристотель не может быть исключением. Многие стремились «загнать» Демокрита в угол противоречий и тем самым разоружить.
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
В действительности понимание места и значения случайного в учении первых атомистов было более гибким. Демокрит, в отличие от Гераклита, вплотную подошел к диалектическому осознанию случайного в свете всеобщности принципа детерминизма. Случайное он не противопоставлял причинно-обусловленному и разумному, напротив искал ему законное положение в мире движения вещей. Именно в философии Демокрита впервые достаточно определенно была поставлена проблема бытия и форм реальности случайного. В описании наследства Демокрита после слов, характеризующих атомы, – признаки, причина неделимости, формы связи, самыми употребляемыми являются: движение, необходимость, случайность.
Есть основания считать идеи Левкиппа и Демокрита исходной позицией теории случайного. По крайней мере, оба философа сделали четкие шаги к пониманию случайного не только как противоположности необходимого. Они рассматривали случайность в разных ракурсах: пытались определить бытие случайного, встроить в материальное основание мира; определяли роль случайного в мышлении. Дионисий утверждал: «Они учили, что случай, который является наиболее враждебным уму, господствует над последним» [1, с.69]. Причина «враждебности» случая уму – в противоречивости их природы. Любопытен вывод Дионисия: «Скорее всего, они его [ум] совершенно отвергают и устраняют, противопоставляя их [ум и случайность] друг другу. Ибо они прославляют не возникший по счастливому случаю ум, но умнейший случай » [1, с.69].
Мудрость в понимании ранних атомистов, – это организованное, упорядоченное необходимостью мышление, «устроенный ум». Рассчитывать на случай в мышлении неразумно. «…Редко случай оказывает сопротивление разуму, чаще же всего в жизни мудреца проницательность направляет», – пояснял Эпикур [1, с.69]. Вместе с тем и недооценивать значение случайного в познании ошибочно, думали они.
Возвращение к наследству помогает проследить становление взглядов на случайное в свете культурного прогресса в целом, выявить тенденции, традиции, отношение к случайному основных форм культурного развития. В XIX веке многие были убеждены: «наука – враг случайности», им было невдомек, что еще раньше того же мнения придерживалась религия. Христианские теологи рассуждали просто – случайность подрывает авторитет разумности, подвергает сомнению разумное начало мира, его божественное происхождение.
Проблема случайного, единственного, единичного – одна из фундаментальных в мировоззрении и теории творчества. Управлять случайным человечество, по-видимому, не сможет, но индуцировать счастливый случай, создавая благоприятные возможности его появлению, 93
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS нам дано. Со временем искусство познавать необходимое дополнится искусством встречаться со случайным. Пока это из области фантазии, философской фантазии.
Список литературы Необходимость бытия и формы реальности случайного
- Материалисты древней Греции. -М.: Госполитиздат, 1956