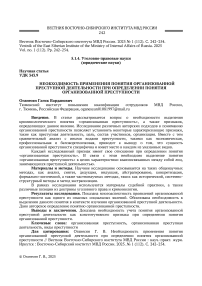Необходимость применения понятия организованной преступной деятельности при определении понятия организованной преступности
Автор: Оганесян Г.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье рассматривается вопрос о необходимости выделения криминологического понятия «организованная преступность», а также признаков, определяющих данное явление. Исследование различных авторских подходов к пониманию организованной преступности позволяет установить некоторые характеризующие признаки, такие как преступная деятельность, цель, состав участников, организация. Вместе с тем сравнительный анализ с иными видами преступности, такими как экономическая, профессиональная и беловоротничковая, приводит к выводу о том, что сущность организованной преступности специфична и имеет место в каждом из указанных видов. Каждый исследованный признак имеет свое отношение при определении понятия «организованная преступность». В связи с этим необходимо выделение понятия «организованная преступность» в целях характеристики взаимосвязанных между собой лиц, занимающихся преступной деятельностью.
Организованная преступность, организованная преступная деятельность, виды преступности
Короткий адрес: https://sciup.org/143184353
IDR: 143184353 | УДК: 343.9
Текст научной статьи Необходимость применения понятия организованной преступной деятельности при определении понятия организованной преступности
Между криминологией и уголовным правом как науками криминального цикла, несмотря на разницу между изучаемыми ими предметами, методами и задачами, не может быть непримиримых противоречий.
-
В. В. Лунеев отмечал: «…давно известно, что правовые отношения не могут быть поняты ни из самих себя, ни из так называемого общего развития человеческого духа. Они коренятся в материальных жизненных отношениях. Уголовно-правовой догматизм и
- консерватизм полезны лишь в рамках объективно отражаемой ими общественно опасной реальности» [1, с. 553].
Среди совокупности задач науки уголовного права выделяют разработку предложений по совершенствованию и развитию уголовного законодательства в целях повышения эффективности правового воздействия на преступные проявления.
В этом смысле решение задач науки уголовного права по формированию уголовноправовых средств воздействия представляется невозможным без должного криминологического исследования организованной преступности.
Криминологическое исследование в первую очередь должно начинаться с выделения предмета познания. С точки зрения формальной логики выделение предмета есть логический процесс выделения части (класса) из общего универсума путем определения совокупности признаков, которые все вместе достаточны, а каждый необходим для того, чтобы отличить эту совокупность как нечто целое от других классов, входящих в универсум [2, с. 184].
Следовательно, поскольку главным предметом изучения криминологии является преступность как социальный феномен, порожденный обществом, являющийся его частью и неотъемлемой составляющей, именно она будет выступать в качестве универсума.
Прежде всего следует обратиться к истории возникновения данной проблемы, а также определить явление, вызвавшее необходимость в выделении такого понятия, как организованная преступность.
Впервые попытка сформулировать определение данного понятия была предпринята в Соединенных Штатах Америки. Д. Л. Херберт и Х. Тритт в своей книге «Корпорации коррупции» писали: «Хотя уже в 1931 году назначенная Президентом комиссия Уикершема предпринимала попытки сформулировать определение организованной преступности, серьезные усилия по определению этого понятия были предприняты только в 1950-х и 1960-х годах, когда комитеты Конгресса начали обнаруживать доказательства существования тайного преступного общества или картели под названием «Мафия» или «Коза Ностра» [3, с. 330–331].
Предлагаемое определение «организованной преступности» основывалось на проведенном анализе характеристик существующего в те времена тайного сообщества «Коза Ностра». Понимание организованной преступности формировалось на основе криминологической характеристики этой организации. В частности, на Ойстер-Бейских конференциях были выделены следующие отличительные признаки сообщества «Коза Ностра»: самосохраняющиеся, тоталитарные, длительные преступные сговоры, расчет на получение прибылей и могущества за счет человеческих слабостей, применение запугивания или подкупа, стремление обезопасить себя со стороны закона [3, с. 331].
В России о существовании организованной преступности впервые открыто стало обсуждаться в журналистской деятельности. Так, в «Российской газете» № 29 (5199), опубликованной 20 июля 1988 года в разделе «Мораль и Право» под заголовком «Диагноз: организованная преступность, было напечатано интервью обозревателя «ЛГ» Юрия Щекочихина и подполковника полиции Александра Гурова.
В ходе беседы А. Гуров указал, что, несмотря на политическую позицию советской власти, открыто не признающей существование организованной преступности на территории СССР, первые признаки данного явления возникли в условиях существования и развития рыночно-хозяйственных отношений в СССР в 60–70-е годы XX века.
Вместе с тем, говоря об организованной преступности, А. И. Гуров отметил, что имеются уровни проявлений, а именно: «…На первом, низшем, – уже сложившиеся преступные группы, которые еще не в силах выйти к этажам власти. Подобные группы действуют в районах Нечерноземья и других зонах. На втором уровне – такие же группы, но имеющие связи с коррумпированными служащими. И, наконец, на третьем уровне – самые сильные: несколько групп соединяются в одну, и наиболее сильный клан руководит остальными (на Западе это называется сетевой структурой мафии). В качестве особенности российской организованной преступности А. И. Гуров обратил внимание на то, что у отечественной организованной преступности в отличие от западной мафии отсутствуют транснациональные связи, а также и то, что западная мафия всегда пытается легализовать свой преступный капитал, порождая легальных миллионеров, к тому времени, как российские действуют «подпольно»1.
Следовательно, появление понятия организованной преступности было обусловлено необходимостью описания существующих и развивающихся как в России, так и за рубежом преступных формирований, функционирующих с определенной целью.
Со временем развитие научной мысли по поводу понимания организованной преступности позволило сформировать различные точки зрения ученых как в России, так и за рубежом.
Весьма аргументированным представляется позиция некоторых авторов по поводу самой формулировки понятия «организованная преступность», что имеет, как уже было отмечено, немаловажную роль в вопросе о необходимости использования самого этого понятия, а также объема его определения.
Так, Я. И. Гилинский в своей монографии говорит о некорректности использования понятия «организованная преступность», ссылаясь на позицию В. Юстицкого, который в свою очередь приводит ряд аргументов против использования понятия «организованная преступность» [4, с. 283].
В частности, В. Юстицкий указывает на следующее: «…во-первых, преступность вообще не имеет субстрата в реальной действительности, а является социальным конструктом. Во-вторых, с точки зрения общей теории организации, «организованность» – неотъемлемое свойство всех биологических и социальных систем (объектов), а потому «неорганизованной преступности» вообще не существует. В-третьих, «в современных условиях, когда деятельность любой публичной или частной институции неизбежно связана с нарушением уголовного закона, понятие «организованная преступность» оказывается синонимом понятий «общество», «государство», «социальная действительность», «социальное явление» [5, с. 46–48].
А. И. Долгова обращает внимание на существующий в литературе факт подмены понятия «организованная преступность» на «организованность преступности», отмечая при этом существующую разницу между ними.
Ученый указывает на необходимость учета взаимосвязи преступности и ее зависимости от характеристик общества, государства, различных социальных явлений и процессов. Вместе с тем автор отмечает, что отрицание существования организованной преступности как социального феномена приведет к отрицанию применения в отношении него специальных мер реагирования. В последующем в своей работе А. И. Долгова, приводя различные подходы авторов, отмечает тенденцию изменения понимания организованной преступности, зависящую от изменения характеристик существующих преступных формирований и видов преступной деятельности [3, с. 329].
В свою очередь, А. И. Долгова поясняет, что организованная преступность – это криминальный феномен, который проявляется не только в существовании отдельных организованных преступных формирований и их организованной преступной деятельности. Приводя в своей работе примеры различных взаимосвязей между преступными формированиями и их деятельностью, А. И. Долгова выделяет надорганизационный уровень, который проявляется в координации и поддержании жизнеспособности самого преступного мира как криминальной системы, существующей в государстве, отмечая, что «…такая координация, если она приобретает устойчивый характер, неизбежно порождает некое межорганизационное, точнее надорганизационное управляющее формирование, решающее общие стратегические проблемы организованных преступных формирований и их криминальной деятельности, реализующее их общую «внешнюю» политику по отношению к органам государства и их деятельности. Такого рода формирование имеет свои специфические задачи и особенности функционирования» [3, с. 354].
К таким выводам А. И. Долгова приходит в процессе исследования характеристик преимущественно развивающегося в 80–90-е XX века криминального феномена «воров в законе» и его специфической деятельности. В качестве особенности ученый выделяет одновременное единство и конфронтацию элементов существующего явления. В свою очередь целью для самого явления является поддержание «жизнеспособности» преступной среды как таковой, как основы для своей криминальной деятельности, однако вместе с этим не наблюдается единой структурной целостности между преступными формированиями и их деятельностью, то есть монополизации сферы деятельности [3, с. 361].
В результате проведенного исследования А. И. Долгова под организованной преступностью понимает следующее: «…это крайне сложное, многообразно себя проявляющее явление. Но в ней есть составляющая, которая присуща только ей: наличие такой системы организованных преступных формирований, их отношений и деятельности, которые рассчитаны на высокоэффективную и масштабную преступную деятельность, а также целенаправленное создание благоприятных для нее условий. Указанная система функционирует успешно при ее надлежащем криминальном экономическом, социальном, идеологическом и политическом обеспечении» [3, с. 369].
Замечание А. И. Долговой о разграничении понятий «организованность преступности» и «организованная преступность» является обоснованным. Данные понятия не имеют друг к другу никакого отношения и характеризуют разные предметы познания. По мнению ученого, организованность преступности как нечто объективное существует с самим обществом, являясь продуктом естественного развития последнего. Понятие «организованности» преступности уместно применять при разрешении вопросов, связанных с возникновением, изменением, наличием причинно-следственных связей между социальными процессами и преступностью как таковой.
Между тем понятие «организованной» преступности, как верно замечает А. И. Долгова, должно служить для описания такого социального явления, которое обладает специфическим и относительно самостоятельным характером своего существования [3, с. 329], то есть имеющего «свою» форму и содержание.
В более современных научных работах приводятся следующие определения организованной преступности. Так, Н. В. Кузьмина считает, что «…организованная преступность как порождение кризисных явлений социально-экономического характера представляет собой разновидность социальной деятельности определенного количества членов общества, направленную на постоянное получение доходов, различных выгод как преступными, так и непреступными способами» [6, с. 24].
В свою очередь данная точка зрения обосновывалась коллективом ученых, исследовавших явление организованной преступности. В. С. Овчинский, В. Е. Эминов, Н. П. Яблоков указывали, что «… как социально-правовое явление организованная преступность в любой стране является результатом достаточно длительного развития объективных процессов, и прежде всего в экономике, социальной сфере и идеологии. Следовательно, организованная преступность – это социально-экономическое явление. При этом ее возникновение было связано с развитием группой преступности ее определенной трансформации, что также вполне закономерно, ибо групповая преступность тогда приобретает характер организованности, когда появляются признаки экономической деятельности, то есть планомерного извлечения прибыли на основе присвоения прибавочной стоимости» [7, с. 151].
Вместе с тем представляется, что признак «материального обогащения» не должен и не может выступать необходимым признаком для определения понятия организованной преступности. В противном случае происходит смешение двух самостоятельных криминологических понятий – «организованной преступности экономической направленности» и «организованной преступности».
В обоснование сказанного следует привести примеры из недавней истории России. В частности, основанный на сепаратистских настроениях вооруженный конфликт, произошедший между Россией и самопровозглашенной Республикой Ичкерия в начале 90-х годов XX века 2 . Незаконные вооруженные формирования на территории Чеченской Республики, имеющие достаточно серьезные военные ресурсы, создавали реальную угрозу для конституционного строя и территориальной целостности России. Существование данных процессов не могло обходиться без обеспечивающего звена. Так, в 1992–1993 годы происходила переориентация «ремесла» чеченских организованных преступных группировок, действовавших за пределами России и стран СНГ. Происходившие в этот период времени в Чеченской Республике события определили ключевые цели чеченских преступных группировок, существовавших в Европе. Денежные средства, получаемые от преступных операций, направлялись в Чечню на поддержку либо оппозиции, либо Джохару Дудаеву [8, с. 153–155].
Кроме того, о недопустимости ограничения понятия организованной преступности признаками, обусловленными экономическими интересами, свидетельствуют примеры из судебной практики. Так, Советским районным судом г. Махачкалы по делу № 1-237/2018 от 27 июля 2018 года М. А. Азизов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 208, ч. 2 ст. 208 УК РФ3. Судом было установлено, что М. А. Азизов на территории одного из городов республики Дагестан и приграничных территориях республики Дагестан было создано незаконное вооруженное формирование, именуемое «Махачкалинская». Данное незаконное вооруженное формирование характеризовалось сплоченной внутренней структурной связью – устойчивостью, в частности едиными преступными целями, основанными на радикальной исламской идеологии. Участники данного формирования обучались обращению с различным оружием и навыкам выживания в экстремальных условиях 4 . Данный пример иллюстрирует отсутствие экономических и финансовых целей существования преступных группировок.
Кроме того, на официальном сайте ФСБ России указан единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими. Так, по состоянию на 2 декабря 2023 года в данный список входило 50 таких организаци й5, целью которых не являлось финансовое обогащение. Создание данных сообществ могло быть обусловлено как «личными» целями, например идеологическими, так и целями осуществления масштабной организованной преступной деятельности.
Все это указывает на неправильность использования при определении организованной преступности какой-либо конкретной цели, тем более ее закрепления в качестве юридического признака, как это имеет место в норме, определенной ст. 35 УК РФ или же в качестве признака состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. На эту проблему неоднократно указывали ученые-криминологи, исследуя конструкции уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за формы проявления организованной преступности [9, с. 6; 10, с. 168].
В свою очередь при характеристике организованной преступности можно столкнуться с необоснованным отождествлением этого понятия с термином «профессиональная преступность».
Однако следует предположить, что понятие «профессиональная преступность» у же понятия «организованная преступность». Данные тезисы обосновываются при анализе признака преступной деятельности, который должен являться конститутивным признаком при определении понятия организованной преступности.
Так, сравнительный анализ данных понятий проводился многими авторами. К примеру, Г. Мишин, сравнивая признаки организованной преступности и профессиональной преступности, указывает, что последняя выражается в индивидуальных преступных деяниях, совершенных с целью добывания средств существования (в виде промысла), при этом преступная деятельность организованной преступности представляет собой коллективную организованную преступную деятельность, предпринимаемую с целью максимизации доходов (прибыли) как вид предпринимательства [11, с. 96].
Интересным представляется позиция А. И. Долговой, которая, комментируя отличие преступной деятельности как признака организованной преступности и профессиональной преступности, отмечает: «…организованную преступную деятельность в изложенном понимании как систему различных преступлений, приобретающих новый смысл и качество именно во взаимосвязи с друг с другом, следует отличать от иных случаев употребления термина «преступная деятельность», т. е., во-первых, от тех видов множественности преступлений, которые предусмотрены УК РФ: неоднократности, повторности, рецидиве, не имеющих указанных выше характеристик; во-вторых, от обозначения понятием «преступная деятельность» специфического, запрещенного уголовным законом вида человеческой деятельности» [3, с. 291].
-
С. Р. Микаутадзе в качестве одного из выносимых на защиту положений своего диссертационного исследования предлагает понятие «преступного профессионализма», под которым определяет «разновидность преступной деятельности, выраженной в систематичности совершения тождественных преступных деяний, обусловленной единством противоправной цели на извлечение значительного преступного дохода в качестве основного источника средств существования и характеризующейся высоким уровнем криминального мастерства» [12, с. 7].
Представляется, что в содержании понятия профессиональной преступности признак «тождественность преступных деяний» является достаточным для полного описания данного вида преступности. Напротив, объем понятия «организованной преступности» представляется шире, в связи с чем его содержание не должно быть ограничено признаком «тождественность преступных деяний».
Кроме того, как верно было подчеркнуто А. И. Долговой, отличительный для понятия организованной преступности признак «преступная деятельность» следует понимать как связь между несколькими преступлениями как единым существующим процессом. В свою очередь признак «преступная деятельность» в определении профессиональной преступности характеризует независимые друг от друга преступления, совершаемые конкретно определенным субъектом.
Для организованной преступности признак «преступная деятельность» является определяющим, который в свою очередь описывает взаимосвязь между людьми и их преступными действиями, которые образуют единую систему.
Вместе с тем такое описание признака «преступная деятельность» для организованной преступности тоже представляется неисчерпывающим и однозначно отличающим ее от профессиональной преступности. К примеру, сложности при определении отличительных признаков между организованной преступностью и профессиональной преступностью возникают при анализе преступной деятельности лиц, организующих такую преступную деятельность «в одиночку» или при использовании минимального количества людей.
Так, М. П. Клейменов в своей научной статье, посвященной вопросам «криминального манипулирования и современной преступности», приводит в пример преступную деятельность Сергея Топора, известного как Виссарион [13, с. 24]. Согласно сведениям Российского информационного агентства «Новости», Виссарион был задержан в Красноярском крае в качестве руководителя религиозной организации «Церковь последнего завета». Называя себя «Сыном Бога» и Новым Христом», он создал общину «праведников», членам которой внушал идеи скорой гибели человеческой цивилизации. Спасением от мировой катастрофы выступало создание новой цивилизации, основанной на его учениях. В качестве одной из догматических положений такого учения являлась передача частной собственности в общину. Вместе с Сергеем Топором в качестве соучастников такой преступной деятельности, организованной Сергеем Топором, были задержаны Вадим Редькин и Владимир Ведернико в6.
Кроме того, М. П. Клейменов в качестве других примеров преступной деятельности приводит преступную деятельность различных бизнес-клубов [13, с. 21].
Таких примеров в настоящее время достаточно много. Вместе с темв современной России все более и более развивается преступная деятельность лиц, действующих в интернет-пространстве. Развивая аккаунты в социальных сетях и набирая аудиторию подписчиков, блогеры, пользуясь приемами манипуляции сознанием, располагают к себе граждан, находящихся в сложном, а порой безвыходном финансовом положении, а также других лиц, стремящихся к «мгновенному обогащению».
Например, согласно сведениям РИА «Новости», был задержан блогер Х. Н. Запиров под псевдонимом Хиза, который в социальных сетях под предлогом предоставления информации об итогах спортивных мероприятий на букмекерских платформах похищал денежные средства люде й7.
На сайте РИА «Новости» также имеются сведения об А. Шабутдинове, который под предлогом создания высокодоходного бизнеса для граждан обманным путем похищал их денежные средств а8.
Приведенные примеры свидетельствуют о трансформации профессиональной преступности от прежних профессиональных карманников до нынешних профессиональных блогер-мошенников. По этой причине отличить «организованную» и «профессиональную» преступность только по признаку преступной деятельности практически невозможно.
Представляется, что профессиональная преступность является составной частью организованной преступности. Так, если преступная деятельность в качестве признака профессиональной преступности представляет собой совокупность тождественных преступлений, то в случае организованной преступности преступная деятельность может состоять как из тождественных, так и нетождественных преступлений, а также и иных непреступных деяний, связанных с криминальной деятельностью.
При определении организованной преступности необходимо обратиться к закону обратного отношения между объемами и содержанием понятий, согласно которому «…объем и содержание понятия находятся в обратном отношении: чем шире объем, тем уже содержание понятия, и наоборот» [2, с. 194]. В связи с этим при определении понятия «организованной преступности» признак «преступной деятельности» должен быть использован для описания совокупности как тождественных, так и нетождественных преступлений.
Кроме того, еще одним признаком, который необходимо проанализировать, является состав участников. В частности, в сравнении с той же профессиональной преступностью организованная преступность не может быть ограничена только преступниками-профессионалами. Также и в сравнении с «беловоротничковой» организованная преступность не может быть ограничена участием лиц, обладающих высоким социальным статусом.
Однозначного определения «беловоротничковой преступности» в научном сообществе не имеется. Однако Э. Сатерленд, являющийся автором данного понятия, использовал его при описании преступлений в области бизнеса, финансово-экономической деятельности, медицинской сфере, в области инвестиции, строительства дорог, банковского дела, военнопромышленного комплекса и т. д.
-
Э. Сатерленд указывал, что «беловоротничковая преступность» возможна практически в любой сфере профессиональной деятельности, общественная опасность которой
заключается в нарушении оказываемого обществом доверия собственному высшему классу [14, с. 83].
В связи с вышесказанным о «беловоротничкой преступности» следует говорить как о преступности высших слоев общества, то есть определенного круга лиц. Если в профессиональной преступности в состав участников входят любые лица, которые живут за счет преступлений и занимаются этим как промыслом, то для «беловоротничковой преступности» профессиональная преступная деятельность представляется у же, а именно рамками той части населения, которая обладает достаточным арсеналом властных, интеллектуальных, финансовых и других ресурсов.
По данному вопросу интересной представляется позиция А. Н. Волобуева, обозначенная в рамках проводимого в 1989 году круглого стола издательства «Юридическая литература». Ученый отмечает, что «организованная преступность – явление целостное. В ней можно выделить определенные направления деятельности, но не формы. Она сама – форма преступности наряду с такой формой, как традиционная (элементарная)» [15, с. 30–31].
В. П. Мурашов дал следующее определение понятию: «Организованная преступность – особый феномен. Ее нельзя рассматривать как хорошо налаженную систему хищений в какой-либо отрасли народного хозяйства, на предприятии или в каком-либо регионе. Организованная преступность – не только сопутствующая хищениям коррупция некоторых чиновников государственного аппарата. Ее нельзя сводить к явлениям чисто уголовной среды. Это не сообщество уголовников со стажем преступной деятельности. … Организованная преступность – не просто новый вид преступности, не существовавший ранее в нашей стране, или как полагают некоторые криминологи, имевший место в определенные периоды нашей истории; не только новое качество преступности, но и особое социальное явление, имеющее определенные криминальные последствия своего существования. Ее следует рассматривать как систему социальных связей и отношений, сложившихся по поводу извлечения незаконной прибыли (или, пользуясь устоявшейся терминологией, нетрудовых доходов, наживы). Организованная преступность, таким образом, – явление, прежде всего экономическое, вернее социально-экономическое» [15, с. 42].
Проведенный сравнительный анализ организованной преступности с некоторыми видами преступности позволяет сделать вывод о том, что само проявление организованной преступности возможно во всех видах преступности. Помимо указанных признаков, важным является также признак организованности, который заложен в самом понятии.
Понятие организации является достаточно сложным и многогранным. В качестве ориентира приведем некоторые варианты определения организации.
Организация (от позднелатинского organize – сообща, стройный вид, устраиваю) обычно понимается как 1) упорядочение, налаживание, устройство, приведение в систему чего-либо материального или духовного, т. е. некоторое действие;
-
2) строение, взаимосвязь, взаимное расположение, соотношение частей какого-либо целого;
-
3) некоторое объединение, учреждение, орган. Наиболее важны первые два ряда значений организации, характеризующие ее как определенный порядок, притом и в функциональном смысле, и в структурном или предметном смысле [16, с. 44].
Следует отметить, что приведенные определения понятия организации вполне достаточны для разграничения организованной преступности от остальных видов. В частности, следует предположить, что признак организации имеет разное отношение в определении организованной преступности и других видов преступности. Так, признак организации присущ не просто самому явлению, как например профессиональной, а имеет отношение к той конкретной преступной деятельности, которая может носить упорядоченный характер. В случае с определением понятия организованной преступности признак организации имеет отношение к самому явлению, что выражается в связях и отношениях между людьми в результате осуществления ими преступной деятельности.
Именно по этой причине явление организованной преступности обоснованно признается наиболее общественно опасным по сравнению с иными видами преступности. В настоящее время организованная преступность представляется реальной угрозой национальной безопасности как для России, так и для всего мира.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
-
1. Выделение понятия «организованная преступность» в качестве криминологической категории является необходимым для описания существующего преступного социального явления.
-
2. В качестве авторского криминологического определения понятия организованной преступности предлагается следующее: организованная преступность – это социальное явление, представляющее собой систему взаимосвязанных между собой преступных деятельностей, осуществляемых определенной частью населения, как не состоящих, так и состоящих в качестве членов организованных групп или преступных сообществ. Взаимодействие между лицами, участвующими в преступной деятельности, как организационный процесс является необходимым условием для поддержания, функционирования и развития самой преступной деятельности.