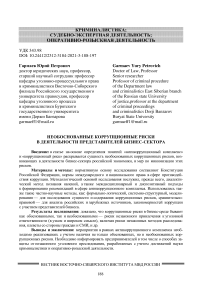Необоснованные коррупционные риски в деятельности представителей бизнес-сектора
Автор: Гармаев Юрий Петрович
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 3 (98), 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье на основе определения понятий «антикоррупционный комплаенс» и «коррупционный риск» раскрывается сущность необоснованных коррупционных рисков, возникающих в деятельности бизнес-сектора российской экономики, и мер по минимизации этих рисков. Материалы и методы: нормативную основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, нормы международного и национального права в сфере противодействия коррупции. Методологической основой исследования послужил, прежде всего, диалектический метод познания явлений, а также междисциплинарный и диспозитивный подходы к формированию рекомендаций в сфере антикоррупционного комплаенса. Использовались также такие частно-научные методы, как: формально-логический, системно-структурный, моделирования - для исследования сущности и содержания коррупционных рисков, сравнительно-правовой - для анализа российских и зарубежных источников, закономерностей коррупции с участием представителей бизнеса. Результаты исследования: доказано, что коррупционные риски в бизнес-среде бывают как обоснованными, так и необоснованными - риски незаконного привлечения к уголовной ответственности (в узком и широком смысле), включая риски незаконных методов расследования, клеветы со стороны граждан и СМИ, и др. Выводы и заключения: мероприятия в рамках антикоррупционного комплаенса необходимо реализовывать с учетом наличия не только обоснованных, но и необоснованных коррупционных рисков. Необходимо информировать предпринимателей в том числе о способах защиты от незаконного уголовного преследования, разработанных с учетом достижений науки криминалистики и оперативно-розыскной деятельности.
Коррупционные риски, антикоррупционный комплаенс, защита от незаконного обвинения, комплаенс, корпоративный сектор, коррупционные преступления, предупреждение коррупции
Короткий адрес: https://sciup.org/143178187
IDR: 143178187 | УДК: 343.98 | DOI: 10.24412/2312-3184-2021-3-188-197
Текст научной статьи Необоснованные коррупционные риски в деятельности представителей бизнес-сектора
В конце ХХ — начале ХХI века все бóльшая роль в предупреждении коррупции отводится бизнесу. В компаниях негосударственного сектора экономики началось постепенное внедрение антикоррупционного и иного комплаенса (налогового, антиотмы-вочного и т. п.). Данный процесс не оставил в стороне и российские, в первую очередь крупные, компании [3, с. 7] 1 .
По мнению Э. А. Иванова, антикоррупционный комплаенс представляет собой процесс управления, который позволяет определять применимые правовые нормы, выявлять и оценивать коррупционные риски, создавать локальные нормы организации с учетом этических принципов, а затем принимать меры, направленные на соблюдение организацией и взаимодействующими с ней лицами правовых норм, локальных норм организации и профилактику коррупционных рисков [5, с. 15].
1 Здесь и далее использованы идеи из данной монографии, в основном из её третьего раздела (автор раздела Ю. П. Гармаев).
Следует также определить понятие «коррупционный риск» коммерческой организации и её собственников, руководителей, сотрудников. В литературе отмечается, что этот термин хотя и является легальным, но используется только в подзаконных актах и нормативно не определен. В науке также нет единообразного толкования термина. Например, определение коррупционного риска как обобщенной оценки вероятности возникновения коррупции и её угрозы общественным отношениям [9, с. 64—65] при всей научной обоснованности вряд ли отражает прагматичное понимание соответствующих процессов в бизнес-среде самими предпринимателями. В цитируемом определении в основу положена некая парадигма, которую можно обозначить так: «Нужно не совершать коррупционных преступлений, иных правонарушений в компании, и все будет хорошо». Понимание коррупционного риска на основе такой парадигмы не всегда эффективно, поскольку не учитывает ситуации, например, незаконного возбуждения уголовных дел.
Представители этой группы населения весьма прагматичны. Их интересует конкретный результат — минимизация, а лучше исключение уголовно-правовых и прочих рисков:
-
— не только (и не столько) причиняющих вред неким «общественным отношениям», зачастую понимаемым как некая абстрактная категория, а конкретно — компании и им лично;
-
— не только коррупционных, но и прочих, условно говоря, смежных, уголовноправовых и иных 1 ;
-
— не только обоснованных, но и любых иных.
В этой связи под коррупционным риском компании предлагаем понимать вероятность совершения реально или мнимо коррупционного и иного правонарушения работником организации и другими лицами, связанными с ней, а также вероятность наступления вытекающих неблагоприятных последствий для бизнеса и конкретных его представителей.
Коррупционные (и иные) риски могут быть высокими, средними и низкими. Задача собственников и иных представителей компании — исключить любой уголовноправовой (или административно-правовой) риск или свести его к минимуму. Предположим, в организации формально совершено нечто не вполне обдуманное, например, явно незаконное или сомнительное с точки зрения закона. Но благодаря принятию своевременных мер в рамках антикоррупционного комплаенса и профессиональной защиты от обвинения уголовное дело не возбуждено или возбужденное — прекращено.
Коррупционные, равно как и иные уголовно-правовые риски могут быть как обоснованными, так и необоснованными.
В целом необоснованные уголовно-правовые риски можно рассматривать, условно говоря, в двух значениях:
-
— необоснованные уголовно-правовые риски в узком смысле (рассматриваемые только в рамках уголовного права);
-
— необоснованные уголовно-правовые риски в широком смысле, включая криминалистические и оперативно-розыскные факторы риска.
1 Существует множество видов комплаенса, помимо коррупционного: налоговый, антимонопольный и др.
По первому значению приведем мнение А. Э. Жалинского, который среди необоснованных выделяет следующие риски:
-
а) применения уголовно-правовой нормы без законного фактического основания;
-
б) расширительного толкования уголовно-правовой нормы;
-
в) неправильной уголовно-правовой оценки деяния;
-
г) незаконного или несправедливого наказания.
При этом к уголовно-правовым факторам риска относятся те, которые дают возможность принятия незаконного и несправедливого решения, но не связаны напрямую с открытым нарушением предписаний уголовного закона [4; цит. по: 11, с. 54—57].
Во втором значении (в широком), на котором остановимся подробнее, уголовноправовые риски можно классифицировать на следующие:
-
— риски проведения против менеджмента и сотрудников компании незаконных оперативно-розыскных мероприятий, включая применение провокаций, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) и т. п.;
-
— риски незаконного проведения доследственных и иных проверок, незаконного возбуждения уголовного дела;
-
— риски незаконных методов расследования и судебного разбирательства, включая фальсификацию доказательств, нарушения закона в рамках проведения следственных, иных процессуальных действий и т. п.
К этой же категории (ко второму значению) отнесем риски неправомерных действий конкурентов в рыночной среде, а также необоснованные риски, связанные с клеветой со стороны недобросовестных лиц и СМИ.
Кроме того, все необоснованные уголовно-правовые риски (в широком значении) можно условно разделить на:
-
— связанные с низкой квалификацией правоприменителей и иных лиц, которые, действуя в основном неумышленно, нарушают права и законные интересы представителей бизнеса. Есть основания полагать, что большинство необоснованных уголовноправовых рисков именно таковы;
-
— связанные с умышленным, сознательным нарушением требований закона со стороны субъекта уголовного преследования с целью причинения вреда коммерческим и иным организациям.
Мотивы последнего со стороны правоохранителей могут быть самыми разнообразными: обеспечить ложно благополучную отчетность; как форма «заказного» уголовного преследования (например, «заказ» со стороны конкурентов с целью захвата бизнеса и т. п.); из личных неприязненных отношений со стороны соответствующих правоохранителей; из корыстной заинтересованности — как способ вымогательства взяток и тому подобные мотивы.
Важно также глубоко понимать сущность обвинительного уклона как ментальной установки и разновидности неправомерных действий отдельных сотрудников полиции, иных правоохранительных органов и суда. В научной и справочной литературе обвинительный уклон определяется как некая направленность деятельности следователя, дознавателя, прокурора и суда в уголовном и административном судопроизводстве, при которой указанные должностные лица принимают позицию обвинения, игнорируют доводы стороны защиты, пренебрегают обстоятельствами, свидетельствующими в пользу лица, привлекаемого к уголовной или административной ответственности, что влияет на объективное расследование и рассмотрение дела [6, с. 26—29; 7, с. 149— 154]. Проявления обвинительного уклона имеют место во всех правоохранительных органах, а иногда и в судах. Причем не только в нашей стране, но и во всех, в том числе экономически благополучных странах мира.
20 февраля 2019 г. в ежегодном Послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации вновь обратил внимание на давление, оказываемое на бизнес, и призвал правоохранительные и контрольно-надзорные органы отказаться от такового, поскольку, «чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания» 1 .
В 2020 году бизнес-омбудсмен Борис Титов представил Президенту Российской Федерации доклад об уголовном преследовании предпринимателей. В нем отмечено, что уголовное преследование разрушает бизнес почти в 85 % случаев. К этому приводит арест банковских счетов, изъятие документов, контакты правоохранительных органов с контрагентами предпринимателей, заключение бизнесменов под стражу. Аресту подвергались 23,8 % участников исследования (под домашний арест попадали 9,5 %), при этом есть примеры того, когда пребывание бизнесменов в СИЗО превышает два года в отсутствие приговора по делу.
Б. Титов отметил, что в 2019 году значительная часть предпринимателей по-прежнему привлекается к уголовной ответственности по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) — «Мошенничество». На нее пришлось 55,5 % всех обращений бизнеса по уголовному преследованию. При этом причиной возбуждения уголовного дела опрошенные предприниматели называют:
-
— конфликт с другим бизнесменом (37,6 %),
-
— или личный интерес сотрудников правоохранительных органов и иных органов власти (41,3 %).
В результате недоверие к правоохранительным органам со стороны бизнеса возросло с 45 до 70,3 %, а к судебным органам оценивается в 57,7 %, а 73,8 % опрошенных отрицают независимость и беспристрастность российского правосудия. Об отсутствии защиты от необоснованного уголовного преследования заявили 93,7 % предпринимате-лей 2 .
Нельзя сказать, что государство и общество не предпринимают усилий по противодействию незаконному уголовному преследованию. Уголовным и уголовнопроцессуальным законодательством установлены особенности уголовного судопроизводства, призванные защищать права и законные интересы предпринимателей. Так, по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 159—159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ (если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности), а также ст. 170.2, 171—174, 174.1, 176—178, 180—183, 185—185.4, ч. 1 ст. 185.6, ст. 190—199.2 УК РФ законодательством предусмотрены специальные нормы, касаю-
-
1 Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный ресурс]. — URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/59863 (дата обращения: 13.04.2021).
-
2 Доклад Президенту Российской Федерации — 2020 [Электронный ресурс]. — URL:
(дата обращения: 13.04.2021).
щиеся, в частности, порядка рассмотрения сообщения о преступлении (ч. 7—9 ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ)) и возбуждения уголовного дела (ч. 3 ст. 20, ч. 1.2 ст. 140 УПК РФ), признания предметов и документов вещественными доказательствами (ст. 81.1 УПК РФ), применения меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ), а также особенности освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного преследования (ст. 76.1 УК РФ, ст. 28.1 УПК РФ) 1 .
Однако в контексте антикоррупционного комплаенса нетрудно заметить, что в упомянутых перечнях статей УК РФ нет коррупционных преступлений. Иначе говоря, не существует специальных норм, облегчающих жизнь предпринимателей в плане привлечения к уголовной ответственности за совершение именно коррупционных преступных посягательств.
Частью 3 ст. 299 УК РФ установлена уголовная ответственность должностных лиц правоохранительных органов за незаконное возбуждение уголовного дела, совершенное в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности из корыстной или иной личной заинтересованности и повлёкшее прекращение такой деятельности или причинение крупного ущерба (согласно примечанию к статье — свыше 1,5 млн рублей). Речь идет о тяжком преступлении (санкция — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).
Между тем, как верно отметил А. Н. Сухаренко, следует скептически оценивать эффективность этого уголовно-правового запрета ввиду необходимости доказывать наличие преступной цели возбуждения уголовного дела в отношении бизнесмена. В уголовном законе и без указанной нормы хватает статей для наказания сотрудников правоохранительных органов. Это нормы: о провокации взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ), о незаконном задержании, заключении под стражу или содержании под стражей (ст. 301 УК РФ), о принуждении к даче показаний (ст. 302 УК РФ), о фальсификации доказательств или результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 303 УК РФ), о воспрепятствовании законной предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Для привлечения правоохранителей к уголовной ответственности необходимо лишь желание следственных органов, которого как раз и не имеется. По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, за 2010—2015 гг. по ст. 169, 299, 302 и 304 УК РФ осудили в общей сложности 12 человек. Больше всего осужденных было лишь по ч. 2—3 ст. 303 УК РФ — 171 человек. Статья 301 УК РФ остается вообще невостребованной [10].
Также остро стоит вопрос о своевременном и неотвратимом привлечении к уголовной ответственности судей за вынесение неправосудных приговоров, решений или иных судебных актов (ст. 305 УК РФ), на основании которых представители бизнеса лишаются имущества. За последние годы по этой статье было осуждено всего несколько судей. Например, в феврале 2008 года вступил в силу приговор в отношении бывшего судьи Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила А. Деменко, подписавшего постановление, с помощью которого пытались захватить екатеринбургский рынок «Обо-
1 См.: О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: постановление Пленума Верховного суда Рос. Федерации от 15 нояб. 2016 г. № 48
ронснабсбыт». Ранее Свердловский областной суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 305 УК РФ и приговорил к 4 годам лишения свободы [1; цит. по: 10, с. 64].
Вместе с тем, как верно заметил С. В. Бажанов, зачастую сами предприниматели обращаются в правоохранительные органы, причем не столько за защитой своего бизнеса общепринятыми правовыми средствами, сколько в целях противозаконного воздействия на контрагентов (партнеров) по договорным отношениям. В числе подобных методов выступает так называемое заказное уголовное преследование, ставшее действенным инструментом в недобросовестной конкурентной борьбе. На данное обстоятельство обращается внимание, в частности, в информационном письме Генерального прокурора Российской Федерации от 12.09.2016 № 36-39-2016 «О недостатках надзора за соблюдением правоохранительными органами прав субъектов предпринимательской деятельности на досудебной стадии уголовного судопроизводства» [2, с. 17—25].
В. Пичугин приводит типовое высказывание лиц, занимающихся захватом чужого бизнеса: «Легче возбудить уголовное дело, чем применять физическое устранение; результативность — та же, если не более высокая». В результате «заказного уголовного дела», возможно, даже не будут найдены признаки преступлений. Но это выясняется много позже, иногда — через много месяцев расследования. «А за это время разбегутся привычные партнеры по бизнесу, сотрудники без руководителя имеют свойство разворовывать все, что можно и нельзя, появится реальная возможность утраты собственности... Именно действия конкурентов становятся самой частой причиной уголовного преследования бизнесменов. Это может быть „честное стукачество“, когда конкуренты собирают информацию о не совсем законной деятельности какого-либо бизнесмена и передают её в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, возбуждают уголовное дело. Может иметь место фабрикация уголовного преследования, грубая и сама по себе преступная» [8, с. 40].
А. Н. Сухаренко отметил, что в марте 2019 года главы АСИ, РСПП, ТПП, «Опоры России» и «Деловой России» подписали соглашение о создании специализированной автономной некоммерческой организации, которая будет поддерживать и развивать цифровую платформу «За бизнес» для приема обращений предпринимателей в связи с оказанием на них неправомерного давления со стороны правоохранительных органов 1 . Приведем авторские тезисы подробнее. Платформа представляет собой электронный ресурс для приема обращений предпринимателей в режиме онлайн. По состоянию на июнь 2020 года туда поступили 1,1 тыс. жалоб, 60 % из которых — на действия сотрудников
1 Сухаренко А. Н. Деловая коррупции в России: состояние, тенденции и меры противодействия: научный доклад на семинаре «Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные механизмы охраны экономических интересов и предпринимательской деятельности». ИзиСП, 30.06.2020. Доклад представлен автором. См. также: Сухаренко А. Административно-коррупционные грабли // Независимая газета. — 2019. — № 122 (7598) [Электронный ресурс]. — URL: (дата обращения: 20.06.2020); Сухаренко А. За взяточничество осуждают все меньше предпринимателей // Независимая газета. — 2019. — №239 (7346) [Электронный ресурс]. — URL: (дата обращения: 20.06.2020).
полиции 1 . Большая их часть касается изъятия имущества в ходе обыска и затягивания сроков его возврата, нарушений при возбуждении уголовного дела, фальсификаций доказательств по делу, избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, необоснованных отказов в удовлетворении ходатайств и жалоб 2 .
Платформа позволяет направлять обращения напрямую в МВД России, Следственный комитет России, Генеральную прокуратуру России и ФСБ России, а также в деловые объединения и бизнес-омбудсмену для получения независимой и оперативной оценки. За ходом рассмотрения обращения можно будет следить в личном кабинете, там же будут публиковаться ответы правоохранительных органов и позиции бизнес-омбудсмена и деловых объединений. При этом предприниматели могут не согласиться с заключением ведомства. В этом случае модераторы совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации могут провести экспертизу или помочь обратиться в суд 3 .
Следует согласиться с А. Н. Сухаренко в том, что для эффективной реализации антикоррупционной политики в бизнес-среде необходимо не только обеспечить государственную защиту предпринимателей, в частности, от незаконного уголовного преследования в случае разоблачения коррупционеров, но и повысить их информированность о существующих внесудебных механизмах защиты своих прав и интересов.
Дополним, что необходимо повышать информированность предпринимателей не только в части указанных механизмов защиты, но о способах их реализации, в том числе разработанных в рамках науки криминалистики, ОРД и др. На это и должна быть ориентирована содержательная сторона антикоррупционного комплаенса (подробнее об этом см.: [3]).
Для надлежащей реализации антикоррупционной политики в бизнес-среде и минимизации рисков конкретной компании необходимо не только обеспечить защиту предпринимателей со стороны государства и гражданского общества. Необходимо инициативное создание внутри организации эффективной комплаенс-системы. Причем не только антикоррупционной, но и шире — уголовно-правовой, налоговой, антимонопольной.
Так, в рамках создания системы антикоррупционного комплаенса необходимо разработать полный комплект необходимой документации (этические нормы, инструкции и т.д.), провести аудит и оценку рисков, выработать рекомендации по антикоррупционной политике компании, выстроить работу с контрагентами, внедрить ряд IT-решений и т. д.
Особенно важно на регулярной основе проводить тренинги и семинары в рамках антикоррупционного и антикриминального просвещения сотрудников. Причем отдельно для двух целевых аудиторий: топ-менеджмент и собственники, остальные сотрудники,
-
1 Здесь и далее А. Н. Сухаренко цитирует работы: Колганов Г. Бизнес остался при своих жалобах // Коммерсантах. Адвокатская газета. — 2019. — № 240 [Электронный ресурс]. — URL: https://www.ng.ru/ideas/2018-11-06/100_ideas061118.html?print=Y (дата обращения: 20.06.2020).
-
2 Адвокатская газета. 2020. № 1 (306).
-
3 Сухаренко А. Н. Деловая коррупции в России: состояние, тенденции и меры противодействия: научный доклад на семинаре «Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные механизмы охраны экономических интересов и предпринимательской деятельности». ИзиСП, 30.06.2020. Доклад представлен автором.
поскольку коррупционные и иные риски этих аудиторий существенно отличаются. Просветительские занятия — ключевой компонент антикоррупционного комплаенса в компаниях.
В рамках таких занятий, в контексте необоснованных рисков всем сотрудникам организации, включая специально уполномоченные подразделения (комплаенс-офицеры, сотрудники кадровых, юридических служб, службы безопасности) с помощью приглашенных спикеров, тренеров, необходимо обучаться наиболее эффективным методам защиты как от законного, так и от незаконного, необоснованного уголовного преследования. Основа этих методов — уголовно-правовые, криминалистические и оперативно-розыскные содержательные компоненты антикоррупционного комплаенса.
Список литературы Необоснованные коррупционные риски в деятельности представителей бизнес-сектора
- Авдеев С. Нижнетагильский судья осужден за помощь рейдеру // Рос. газ. — 2007. — № 270. [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2007/12/03/sudia-anons.html (дата обращения 15.06.2021).
- Бажанов С. В. Состояние законности при возбуждении уголовных дел и расследовании преступлений, совершаемых предпринимателями // Право и экономика. — 2017. — № 8. — С. 17—25.
- Гармаев Ю. П. Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации: междисциплинарные аспекты: моногр. / Ю. П. Гармаев, Э. А. Иванов, С. А. Маркунцов. — М.: ИД Юриспруденция, 2020. — 240 с.
- Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2009. — 400 с.
- Иванов Э. А. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС. — М.: Юриспруденция, 2015. — 136 с.
- Кудрявцев В. Л. «Обвинительный уклон» в деятельности следователя: проблема только законодательного урегулирования? // Уголовное судопроизводство. — 2008. — № 2. — С. 26—29.
- Назаров А. Д. Обвинительный уклон в деятельности субъектов, ведущих уголовный процесс, как фактор, способствующий появлению ошибок в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы российского права. — 2015. — № 9. — С. 149—154.
- Пичугин В. Безопасность бизнеса. Защита от уголовного преследования. — М: Альпина Диджитал, 2009. — 176 с.
- Помазуев А. Е. Коррупционные риски: понятие и значение для механизма противодействия коррупции // Российский юридический журнал: электрон. прил. — 2/2016. — С. 64—65. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korruptsionnye-riski-ponyatie-i-znachenie-dlya-mehanizma-protivodeystviya-korruptsii/viewer (дата обращения 15.06.2021).
- Сухаренко А. Н. Уголовно-правовая защита бизнеса от незаконного преследования // Безопасность бизнеса. — 2017. — № 2. — С. 60—64.
- Яни П. С. Антикоррупционный комплаенс в уголовно-правовой сфере: содержательный элемент / П. С. Яни, Н. В. Прохоров // Российская юстиция. — 2018. — № 9. — С. 54—57.