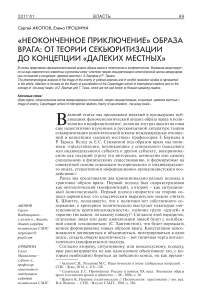"Неоконченное приключение" образа врага: от теории секьюритизации до теории "далеких местных"
Автор: Акопов Сергей Владимирович, Прошина Елена Михайловна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 1, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен феноменологический анализ образа «врага» в политологии и конфликтологии. Внимание акцентируется на еще недостаточно известных русскоязычному читателю теории секьюритизации копенгагенской школы международных отношений и концепции «далеких местных» З. Баумана и Р. Тараса.
Образ "врага", копенгагенская школа международных отношений, теория секьюритизации, концепция "далеких местных"
Короткий адрес: https://sciup.org/170165570
IDR: 170165570
Текст научной статьи "Неоконченное приключение" образа врага: от теории секьюритизации до теории "далеких местных"
В данной статье мы продолжаем начатый в предыдущих публикациях феноменологический анализ образа врага в политологии и конфликтологии1, делая на этот раз акцент на пока еще недостаточно изученных в русскоязычной литературе теории секьюритизации копенгагенской школы международных отношений и концепции «далеких местных» профессоров З. Б-аумана и Р-. Тараса. Вслед за Е-.С. Сенявской под образом врага мы понимаем «представления, возникающие у социального (массового или индивидуального) субъекта о другом субъекте, воспринимаемом как несущий угрозу его интересам, ценностям или самому социальному и физическому существованию, и формируемые на совокупной основе социально-исторического и индивидуального опыта, стереотипов и информационно-пропагандистского воз-действия»2.
АКОПОВ
Сергей
ПРОШИНА Елена
Михайловна – к.филос.н., профессор; заместитель заведующего кафедрой политологии СЗАГС
Р-анее мы представляли два принципиально разных подхода к трактовке образа врага. Первый подход был охарактеризован как онтологический (конфликтный), а второй – как ситуационный (консенсусный). Первый подход опирается на теорию со-циал-дарвинизма; его классическим выразителем можно считать К. Шмитта, полагавшего, что у политики нет собственного содержания, а критерием политического выступает некоторая «интенсивность противоположенности», наличие групп «друзей» и «врагов» (не важно, по какому поводу)3. Согласно этой парадигме, отдельные люди или даже цивилизации людей будут с неизбежной силой «сталкиваться» (С. Хантингтон), что будет порождать вечное формирование новых образов врага. Констатация невозможности договориться и объединиться, интегрироваться в одно целое, создать общую идентичность – вот типичная черта онтологического (конфликтного) подхода.
Согласно второму, ситуативному, или консенсусному, подходу, враг рассматривается не как однозначное объективное зло, с ко торым необ ходимо бороться до победного конца, но как времен-
-
1 А-копов С.В., Р-озанова М.С. Идентичности в эпоху глобальных миграций. – СПб. : Деан, 2010, с. 118–128.
-
2 Сенявская Е-.С. Противники Р-оссии в войнах XX века: Эволюция образа врага в сознании армии и общества. – М., 2006, с. 20.
-
3 Шмитт К. Понятие политического // Политология : хрестоматия / отв. ред. В.А-. Волков. – СПб. : Изд-во СЗА-ГС, 2001, с. 284.
ный конкурент, с интересами которого может быть достигнут компромисс. Так, М. Уоллерстайн предлагает заменить шмиттовское представление о «единой воле народа» концепцией парламентско-плюралистической демократии, которая исходит из принципа различий авторитетов и мнений. Тогда общественное благо есть «результат взаимодействия и сбалансированности групп интересов»1, где формирование «врагов» можно отнести на счет временной несбалансированности интересов.
На ситуативном подходе основываются работы ряда конфликтологов. В большинстве случаев, пишут Р-. Фишер и У. Юри, спрашивать переговорщика: «Кто выигрывает?» – так же бессмысленно, как спрашивать, кто выигрывает во фрисби или кто выигрывает в вашем браке. Е-сли вы задаете себе подобный вопрос – значит, рискуете проиграть более важные переговоры: по поводу того, в какую игру вам вообще следует играть, как строить отношения друг с другом, как сочетать общие и частные интересы. Классики «гарвардского метода переговоров» пытаются «выиграть» самую главную игру, т.е. найти наилучший формат переговоров и способ справляться с человеческими раз-личиями2. Таким образом, в самом слове «выигрыш», употребляемом в ситуативном подходе, угадывается парадигма «игры», в которой игроки пытаются остаться в рамках представлений о порядочности, в то время как в онтологическом подходе ставка делается именно на окончательную «победу» любой ценой.
Предложенные два подхода – онтологический и ситуативный – различаются не только в понимании врага, но и в трактовке самого понятия «политическое». «Политическая теория, – пишет М. Дюверже, – колеблется между двумя драматически противостоящими интерпретациями политики. В соответствии с одной из них, политика есть конфликт, борьба, в ходе которой те, кто обладают властью, обеспечивают себе контроль над обществом и получение благ. В соответствии с другой интерпретацией, политика представляет собой попытку осуществить правление порядка и справедливости… означает обеспечение интеграции всех граждан в сообщество»3.
К первой группе, в классификации М. Дюверже, помимо К. Шмитта мы можем отнести сторонников агонизма в политике – Д. Тилли и Ш. Муфф. Подхватывая мысль Вебера и Ницше о разделенности человечества и невозможности тотального примирения, Муфф рассматривает политику широко – как часть культуры, искусства, СМИ. Последние, по ее словам, всегда есть артикуляции гегемонии, они служат инструментом консолидации и борьбы «своих» против «чужих»4. В противоположном от агонизма лагере мы видим Х. А-рендт и С. Б-енхабиб. Последние выступают сторонниками дискурсивной демократии и приравнивают политическое к пространству свободы, диалога и взаимопонимания5.
То, как безопасность в целом и образ врага в частности превращаются в дискурсивные практики, хорошо, на наш взгляд, описано в теории секьюритизации, разработанной в рамках копенгагенской школы международных отношений (Б-. Б-узан, О. Вэвер). Теория секьюритизации представляет собой новое направление исследований в области безопасности. Б-езопасность трактуется не как реальное состояние дел, а как дискурсивная практика, направленная на модификацию иерархии политических приоритетов. Е-сли какая-то проблема «секьюритизируется» (включается в орбиту дискурса безопасности), то это означает, что ей приписывается наивысший приоритет, статус экзистенциальной угрозы, требующей со стороны общества чрезвычайных мер противодействия. Таким образом, фокус исследовательской работы смещается с изучения угроз как таковых на анализ их концептуализации в данном социальноисторическом контексте6.
Копенгагенская школа – один из вариан- тов развития социального конструктивизма в теории международных отношений. Нам особенно близко то, какое большое внимание уделяется в рамках этого подхода именно культурной составляющей политического процесса. Конструктивистская парадигма международных отношений, в отличие от реализма, марксизма или плюрализма, не преуменьшает нормативный элемент политики и не пытается предложить «свободное от ценностей», «научное» объяснение деятельности международных акторов. Наоборот, Б-. Б-узан и О. Вэвер в своей концепции рассмотрели, как конкретные политические силы трансформируют отдельно взятые события в вопросы безопасности. Представители копенгагенской школы трактуют «безопасность» именно как речевой акт. Они определяют секьюритизацию как «крайний вариант политизации, который оправдывает использование чрезвычайных средств и методов воздействия во имя сохранения безопасности общества»1. При этом исследователи пытаются выяснить, кто осуществляет акты секьюритизации, какие события (угрозы) «секьюритизируются», ради кого это делается, почему, с какими последствиями и при каких условиях. На сегодняшний день концепция секьюритизации хорошо иллюстрирована в западной литературе, особенно после событий в США- 9 сентября 2001 г., а также на азиатском материале.
Согласно логике копенгагенской школы, дискурсы опасности могут намеренно создаваться акторами публичной политики в целях легитимации чрезвычайных мер политической мобилизации общества против образа созданного врага. А-вторитетный специалист по образам врага В. Волкан поясняет: враг – это «резервуар», в который помещаются собственные нежелательные аспекты. При этом соответствия образа и реальности не требуется. «По мере того как наличие врага кристаллизует самоидентификацию нации, этот хронический конфликт становится инкрустированным в ее идентичность. Отвергая негативные черты и дистанцируя себя от наделенного ими врага, нация тем самым привязывает себя к нему»2. Ч-ем разительнее мы хотим отличаться от врага, тем сильнее сходство, каким бы подсознательным оно ни было. Враждебные отношения становятся независимым источником динамической энергии, которую Г. Штейн назвал «симбиозом врагов». Она управляется законами проекции и диссоциации. При этом каждая сторона нуждается в антигерое для завершения своей идентичности. В случае его исчезновения или эволюции приходится искать нового врага. Например, распад СССР- лишил А-мерику той «империи зла», по отношению к которой она определяла себя.
Применительно к постсоветским странам по окончании холодной войны следует упомянуть работу З. Б-аумана «Е-вропа: неоконченное приключение». В этой книге английский социолог польского происхождения связывает развитие ксенофобии в странах Восточной Е-вропы с попыткой спасти представления о былой советской солидарности в наступившую эпоху соревнования и рынка – в эпоху, когда «приезжим» удается встраиваться в социальные структуры, в то время как «местное» население маргинализуется. Ч-тобы понять, как это приводит к формированию новых образов врага и в кого целят люди, страдающие ксенофобией, профессор из Нового Орлеана Р-. Тарас в книге «Е-вропа старая и новая» предлагает рассмотреть введенное З. Б-ауманом понятие «далеких местных» ( far-a^ay locals ). Выражение «далекие местные» подразумевает людей, живущих в других концах мира, о которых мы узнаем из глобальных СМИ, включая все, что с ними происходит: убийства, эпидемии, мародерство, творящиеся в их странах3.
Р-. Тарас полагает, что понятие «далекие местные» может быть применимо и к меньшинствам внутри общества. Собственно, не столько само пересечение границы превращает мигрантов в «чужих» (strangers), сколько попирание ими сложившегося у «настоящих местных» чувства защищенности, ломка устоявшихся представлений большинства о далеком и близком, о том, что находится внутри и за пределами. Р-. Тарас показывает, что выражение «далекие местные» может подразумевать самых разных людей: и мигрантов, и гостей, и временных переселенцев, и представителей той или иной диаспоры, и даже коренных членов общества, рассматривающихся, однако, большинством в качестве тех, кто к этому обществу не принадлежит (non-belongers). Причем это почти не связано с гражданским статусом таких людей или временем, в течение которого они уже пребывают на территории страны. А-мериканский профессор указывает, что это могут быть «кавказцы» или «цыгане» в Р-оссии и Восточной Е-вропе, «мусульмане» в Е-вропе Западной, но также и «вненациональные» группы, обладающие субнациональной либо сверхнациональной идентичностью, не считающие существующее государство своим настоящим «домом». Подобные группы кристаллизуются уже по идеологическому признаку. В качестве таких «вненациональных» групп Р-. Тарас приводит в пример сторонников возврата к советскому режиму в современной Р-оссии или хорватов, ностальгирующих по Югославии. Вместе с тем, подчеркивает исследователь, если враждебность против «далеких местных» может долго сохраняться на достаточно низком уровне, то «вненациональным» группам при определенных обстоятельствах грозит полное исключение из сообщества. Для Е-вропейского союза, сталкивающегося с необходимостью формирования единой политической идентичности в среде культурно и экономически гетерогенного населения, проблема образа врага стоит особенно остро.
Ч-то необходимо сделать, чтобы преодолеть образы «далеких местных» и контролировать процесс секьюритизации? На наш взгляд, нужно обращать больше внимания на культурные основания политики. Р-азвивая идею И. Канта об активной гражданской самостоятельности как положительном определении свободы, необходимо направить усилия на формирование международного сообщества интеллектуалов, объединенных личност- ным опытом преодоления образа врага в отношении других культур. Необходимо поддерживать такое сообщество в качестве эффективного инструмента и агента конфликторазрешения как на национальном и наднациональном уровнях, так и на уровне отдельно взятых сообществ. Тексты таких авторов, как, например, антрополог К. Леви-Стросс или философ С.Л. Франк, на наш взгляд, имеют большой потенциал кросс-культурной коммуникации и интеграции, так как они синтезируют в своих нарративах разнообразные ценностные ряды. В работе «Пушкин об отношениях между Р-оссией и Е-вропой» С.Л. Франк писал о гениальной способности А-.С. Пушкина к синтетическому, примиряющему противоположности восприятию. Он защищал ценность самобытной русской исторической культуры от крайнего западничества П.Я. Ч-аадаева; по отношению к славянофилам он утверждал превосходство западной культуры и ее необходимость для Р-оссии. И это, по мнению Франка, не эклектическое примирение непримиримого, не просто какая-то «средняя линия», а подлинный синтез, основанный на совершенно оригинальной точке зрения, открывающей новые, более широкие духовные и философско-исторические перспективы. Об австрийском поэте-символисте Р-.М. Р-ильке Франк писал, что он был одной из тех универсальных натур, которые, будучи глубоко, как все творческие натуры, укоренены в своей национальности, вместе с тем ее перерастают и достигают сферы вселенского духа – не в отвлеченно-рационалистическом, бездушном и бесплодном «космополитизме», а в конкретном сродстве с разными и разнородными национальнокультурными его, вселенского духа, обна-ружениями1.