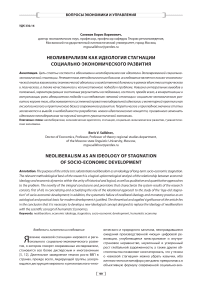Неолиберализм как идеология стагнации социально-экономического развития
Автор: Салихов Борис Варисович
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Вопросы экономики и управления
Статья в выпуске: 1 (58), 2020 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи состоит в обосновании неолиберализма как идеологии долговременной социально-экономической стагнации. Релевантным методологическим базисом исследования является логико-гносеологический анализ взаимосвязи экономической идеологии и хозяйственной динамики в рамках единства исторического и логического, а также качественного и количественного подхода к проблеме. Новизна интегральных выводов и положений, характеризующих системные результаты исследования, состоит, прежде всего, в конкретизации и актуализации роли идеационного подхода к исследованию «вековой стагнации» социально-экономического развития; короме того, обосновывается системный провал неолиберальной идеологии и монетарной практики как аксиологического и практического базиса современного развития. Теоретическое и прикладное значение статьи заключается в выводе о необходимости разработки нового идеологического концепта, призванного заменить идеологию неолиберализма на научный концепт гуманистической экономики.
Неолиберализм, экономическая идеология, стагнация, социально-экономическое развитие, гуманистическая экономика
Короткий адрес: https://sciup.org/14120330
IDR: 14120330 | УДК: 330.16
Текст научной статьи Неолиберализм как идеология стагнации социально-экономического развития
Введение и гипотеза исследования
Явление «вековой стагнации» мирового и регионального социально-экономического развития, о котором говорят современные исследователи, становится все более дисперсным и многозначным [5, 12]. Длительное замедление темпов роста ВВП в странах, прежде всего, лидирующей группы, ускоряющаяся деструкция мирового и регионального чело- веческого и природного капитала, неоправдавшиеся ожидания производственной «мощи» цифровой революции, углубляющееся межстрановое и внутри-страновое неравенство, неуклонный и ускоренный рост глобальной задолженности, а также другие обстоятельства позволяют констатировать, что у тезиса о «вековой стагнации» можно убрать кавычки, ибо лингвистическая метафора уже давно превратилась в объективную формулу современной социально-эко- номической практики [5, 7]. Сформировалась устойчивая тенденция стагнации социально-экономического развития, подтверждением которой могут быть данные таблицы 1.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в странах лидирующей группы за последние три десятилетия темпы роста ВВП сократились от 2,5 до 3,5 раз. Это особенно заметно в государствах еврозоны, где за исследуемый период сокращение темпов роста ВВП составило 3,3 раза. При этом еще более информативным является показатель совокупной факторной производительности (далее СФП), фиксирующий системную и взаимосвязанную результативность не только человеческого, вещественного и природного капитала, но и технико-технологической переменной «А» в производственной макроэкономической функции ( Y= A K a N 1-a). Названная технико-технологичексая перменная «А» интегрирует в себе весь перечень явных и неявных знаний, экономических и неэкономических факторов, прямо и непосредственно определяющих качество и функциональность новых политико-экономических идей, ментальных моделей, социокультурных условий, формальных и неформальных институтов, организацию и управление воспроизводством, а также многие другие условия и детерминанты социально-экономического развития.
Четко выраженная негативная долговременная динамика СФП в странах-лидерах, особенно в Великобритании, где СФП вышла за пределы положительных оценок, свидетельствует не о фрагментарных «текущих» проблемах хозяйственной динамики, что часто «объясняют» кризисными циклами экономического развития, а о системных дисфункциях хозяйственного механизма, имеющего общую идеологическую, теоретико-методологическую и научно-практи-чекую основу. Эффект убывающей отдачи от СФП здесь стал устойчивой тенденцией, заключающей в себе реальный потенциал перерастания в системную деструкцию всего производительного капитала, как регионального, так и мирового. Причем, отмеченное длительное замедление темпов роста ВВП и СФП является не только свидетельством системных прова- лов действующей экономической идеологии неолиберализма, взятой «на вооружение» всеми странами лидирующего развития в 80-х годах прошлого столетия, но и неспособности дисциплинарной матрицы этой идеологии релевантно отразить и интерпретировать новые императивы развития личности, общества и цивилизации в целом.
Следовательно, гипотезой исследования является предположение о том, что долговременная стагнация мировой и региональной экономики закономерно предопределяется именно действующей экономической идеологией неолиберализма с присущей ей системой монетарно-плутократических (властно-денежных) ценностей и смыслов. Несмотря на то, что показатели Таблицы 1 свидетельствуют об угасающей функциональности онтологии (идеология и политико-экономические решения), феноменоло-гии(управленческие «правила игры») и праксиологии (бизнес-решения) идеологии неолиберализма, доказательство гипотезы требует решения следующих творческих задач. Во-первых, необходимо конкретизировать роль и значение экономической идеологии в социально-экономическом развитии как таковом, независимо от того или иного его исторического этапа. Во-вторых, критически важным является логикогносеологическое доказательство онтологической «причастности» именно идеологии неолиберализма к системной стагнации современного развития социума и экономики.
Методологическая парадигма анализа
Методология исследования непосредственно связана с трактовкой сущности ключевых понятий и характеристикой дисциплинарной матрицы логикогносеологического анализа. Качественная определенность основных понятий в «снятом виде» заключает в себе весь последующий аналитический потенциал, поскольку «сущность является» и предстает в виде функциональных форм и отношений. Дисциплинарная матрица исследования характеризует качественную целостность подхода к проблеме в рамках
Таблица 1
Динамика ВВП и совокупной факторной производительности в основных странах-лидерах (в %) [8, с. 97]
|
Страна |
1913-1950 |
1950-1975 |
1975-1995 |
1995-2005 |
2005-2015 |
|
|
США |
ВВП |
3,3 |
3,5 |
3,2 |
3,4 |
1,4 |
|
СФП |
2,5 |
1,8 |
1,1 |
1,8 |
0,6 |
|
|
Страны еврозоны |
ВВП |
1,0 |
5,1 |
2,5 |
2,0 |
0,6 |
|
СФП |
1,2 |
3,6 |
1,8 |
0,7 |
0,2 |
|
|
Великобритания |
ВВП |
1,3 |
2,9 |
2,4 |
3,0 |
1,0 |
|
СФП |
1,2 |
1,8 |
1,8 |
1,6 |
-0,1 |
|
некоторого объектного пространства и предметного «поля». Под экономической идеологией резонно понимать систему научных взглядов и ключевых положений, интегрированных в идеологические концепты, отражающие нормативное «должное» в качестве некой «идеальной» социально-экономической модели. Экономическая идеология есть, прежде всего, представление ее создателей о релевантных ценностях определенного социально-экономического идеала, заключающего в себе также и механизм его формирования и последующего развития. При этом экономическое мировоззрение предстает лишь в качестве «сущего», характеризуя систему взглядов субъекта на функционирующий мир социально-экономических явлений (реальное экономическое устройство общества), а также на свое место в этом мире [5].
Экономическое мировоззрение может быть шире по объему и богаче по смысловому потенциалу именно в рамках исследования и характеристики «сущего», чем экономическая идеология, устремленная к проектной системе «должного». Между тем, феномен экономической идеологии, содержащий в себе четко артикулированную и ясно выраженную цель социально-экономического развития, определяет качество «системы процесса» и «системы среды» как средства и условия ее достижения. Следовательно, экономическая идеология видится более энергетически действенным явлением, чем экономическое мировоззрение. Более того, экономические идеи «выше» и собственно экономических интересов. Дж. Кейнс подчеркивал, что «сила корыстных интересов значительно преувеличивается по сравнению с постепенным усилением влияния идей» [9, с. 350]. Ве-рифицированность определенного идеологического концепта и его признание частью научного сообщества, приводит к становлению новой научной парадигмы и развитию так называемой нормальной науки [13], в рамках которой формируются релевантные проектные модели как такового развития.
К примеру, проектная модель экономической идеологии неолиберализма основывается на следующих ключевых постулатах, составляющих ядро современной неоклассики. Во-первых, идеология неолиберализма исходит из безусловного приоритета интересов личности как воинствующего индивида, относительно интересов гражданского общества и всей человеческой цивилизации. В социально-экономическом плане это означает безусловность приоритета системы частного присвоения и частной собственности, по отношению к системе общей и/или цивилитарной собственности. При этом непрерывно воспроизводящийся дисбаланс частных и общих интерсов объективно не может способствовать высокой эффективности хозяйственной деятельности [1, 2]. Известное суждение Ф. Хайека о либеральном
«индивидуализме истинном», который «гармонично связан с интересами общества» [22] едва ли видится обоснованным, поскольку практика свидетельствует об обратном: приоритет частных целей и интересов закономерно приводит к системиной деструкции общественного сектора экономики.
Во-вторых, неолиберальный идеологический концепт, именно в своем теоретическом обосновании проектной неоклассической социально-экономической модели, исходит из «мифической абстракции» о способности воинствующего индивида высокоэффективно решать оптимизационные задачи в сфере выбора наилучшей альтернативы экономической деятельности, при этом всегда осуществляемой при полной занятости факторов производства. Однако еще Дж. Кейнс отмечал, что «постулаты классической теории применимы не к общему, а только к особому случаю, так как экономическая ситуация, которую она рассматривает, является лишь предельным случаем возможных состояний равновесия. Более того, характерные черты этого особого случая не совпадают с чертами экономического общества, в котором мы живем, и поэтому их проповедование сбивает с пути и ведет к роковым последствиям при попытке применить теорию в практической жизни» [9, с. 11].
В-третьих, неолиберализм исходит из безусловного приоритета свободного рынка с его «невидимой рукой», априори «верно» указывающей «путь» социально-экономического развития [20]. Здесь не производство реальных ценностей, а фаза обмена и денежный сектор экономики становятся основными. Наряду с воинствующим индивидуцализмом и прири-тетом частного интереса над общим, это закономерно приводит к первенству экономики «денег» над экономикой «хлеба». Более того, институционализируется механизм получения «быстрых и коротких» денег, а не «долгих и длинных», связанных с инвестициями, прежде всего, в фундаментальную науку и наукоемкое производство. Стремление экономических агентов к быстрой и большой прибыли превращает их в активных искателей «плохой» ренты, прежде всего, за счет хищнического потребления человеческого и природного капитала, а также межстрановой дискриминации. Очевидно, что смитианская «невидимая рука» уже давно «указывает не туда», куда это было бы действительно необходимо [1, 2].
В-четвертых, экономическая идеология неолиберализма не содержит в себе потенциал созидательности, нового смыслопроизвдства и действительных гуманистических ценностей. Вся система отношений нацелена, с одной стороны, на максимизацию утилитарных потребностей воинствующего индивида, что приводит к господству менталитета безудержного потребительства. С другой стороны, конкурентный рынок всегда будет изыскивать лю- бые возможности для наращивания своих монетарно-плутократических «мощностей» для оправдания надежд растущего и всеобщего потребительства. В результате, вместо экономики «хлеба», формируется и расширенно воссоздается не только экономика «денег и зрелищ», сопровождаемая эрозией созидательных смыслов, размыванием ноосферных ценностей и неудержимо превращающаяся в хозяйственного Левиафана третьего тысячелетия. В связи с этим, справедливо сказано, что лечить следует уже не только экономику, а лечить необходимо человеческую цивилизацию, пораженную «вирусом» всеобщего потребительства [1, 4]. Таким образом, экономическую идеологию неолиберализма резонно определить как систему научных идей, основанных на безусловном приоритете ценностей индивидуализма, частного интереса и монетарно-рыночной модели воспроизводства.
Методологический ракурс исследования влияния неолиберализма на социально-экономическое развитие также непосредственно связан с однозначным пониманием феномена стагнации, представляющей собой «застойный» рост подушевого ВВП, то есть менее 2% в год [7]. Примечательно, что современные прогнозные оценки ученых и монетарных властей США в сфере роста подушевого ВВП страны не превышают двухпроцентного уровня (таблица 2), что прямо свидетельствует о падающей социально-экономической эффективности неолиберальной идеологии и воинствующего монетаризма.
Представленный прогноз свидетельствует о стагнации социально-экономического развития, поскольку рост подушевого ВВП менее чем 2% в год свидетельствует о переходе экономики в режим простого воспроизводства. При этом общественно нормальному уровню экономического роста должен соответствовать 3,5-4,0-х процентный ежегодный темп прироста ВВП. Неутешительный прогноз долгосрочного развития экономики стран лидирующей группы свидетельствует о том, что в рамках действующей неолиберальной идеологии и релевантной научнопрактической парадигмы преодолеть тенденцию социально-экономической стагнации едва ли представляется возможным [5,7,8].
В свете сказанного, важнейшим методологическим и методическим аспектом анализа является сознательное усложнение предметного «поля» исследования, что предполагает учет ключевых звеньев геосоциальной системы национальных и региональных сообществ [14, 19] (это позволит наиболее полно учесть все факторные «ингредиенты» в переменной «А» ранее упоминавшейся макроэкономической функции). Методология системной парадигмы, учитывающая единство внешних условий и внутреннего многообразия рассматриваемых объектов, здесь представляется наиболее релевантной дисциплинарной матрицей для наиболее полного исследования проблемы, а также для тестирования результатов развернувшейся научной дискуссии на предмет ее соответствия требованиям геосоциального и междисциплинарного подхода [10, 18].
Ретроспектива обсуждения проблемы и результаты
Результаты предметной дискуссии о причинах «вековой стагнации» свидетельствуют о том, что объективация положений неолиберальной идеологии, выраженной в социально-экономических доктринах стран лидирующей группы и в рекомендациях «вашингтонского консенсуса», не приводит к ожидаемому высокому результату в сфере обеспечения устойчивого и прогрессивного развития [6, 16]. В связи с этим, в современной дискуссии о проблемах социально-экономического развития появляется все больше сторонников подхода, в рамках которого именно идеология рассматривается как глубинное основание качественной целостности экономических и общественных процессов. Все чаще отмечается, что идеи не просто «важнее» интересов, а что многие современные проблемы есть закономерный результат системной недооценки энергетической и производственной «мощности» экономической идеологии как таковой [9, 17, 21]. При этом проблема заключается в дихотомии: либо разработать принципиально новый идеологический концепт, основанный на иных, чем либерализм, ценностно-смысловых постулатах; либо пытаться обновить действующую неолиберальную парадигму.
Прогнозные оценки среднегодовых темпов прироста ВВП США (в %) [7, с. 131]
Таблица 2
|
Источник оценки |
ВВП на душу населения |
|
1. Д. Джоргенсон (2010-2020 гг.) |
1,05 |
|
2. Дж. Ферналд (до 2023 г.) |
1,36 |
|
3. Бюджетное управление Конгресса США (2019-2023 гг.) |
1,55 |
|
4. Долгосрочный прогноз Комитета по операциям на открытом рынке ФРС |
1,63 |
Первая группа исследователей четко фиксирует деструктивную роль неолиберализма в современной хозяйственной действительности и системно обосновывает необходимость смены идеологической парадигмы [1, 2, 4]. Отмечается, что в 80-х годах прошлого столетия в рамкахмировой экономической науки произошла реверсивная инволюция, нацелившая теорию и практику не в сторону прогрессивной эволюции, а назад, к ценностям «индивидуализма истинного» [22], приоритета частной собственности, монетаризма и «свободной» конкуренции. Это привело к вполне ожидаемым негативным результатам: воинствующий индивидуализм личности магическим образом трансформировался в одноименный индивидуализм стран-лидеров (прежде всего, США), которые реализуют неолиберальный эгоистический концепт теперь уже на межстрановом и межрегиональном уровне, о чем свидетельствует углубляющееся неравенство, как в мире, так и внутри самих развитых стран [3].
Кроме того, торжествующая в условиях либерализма система частной собственности и мифическая вера во всесилие механизма конкурентного рынка, привели к масштабной финансиализации экономики (нетто-поток финансов из промышленного сектора экономики в денежный сектор хронически превышает обратное движение денег). Наряду с этим, стремление к быстрой и большой прибыли давно не способствует ускоренному развитию общественного сектора экономики (фундаментальной науки, системы образования), что существенно замедляет технико-технологический прогресс. В результате, масштабные и непрерывные инновации по-прежнему основываются на достижениях второй (частично третьей) технологической революции, основанной на традиционном использовании невоспроизводимых экономических ресурсов. Добавим сюда «нетто-структурный сдвиг» в пользу экономических симулякров (бесполезного сектора экономики), «рыхлеющую» в странах лидирующей группы роль «социального» государства, уже не способного к организации шумпетерианского «созидательного разрушения», и общая картина современной деструктивной роли неолиберализма будет полной [8].
Выход из усиливающейся тенденции социально-экономической стагнации, ученые видят в радикальной смене идеологической, а также релевантной исследовательской и научно-практической программы. Они резонно полагают, что для решения назревших и обостряющихся проблем мирового и регионального развития, необходима креативная революция, требующая, в свою очередь, масштабного и повсеместного развития творчески-трудовых способностей человека и социальных групп. Такое развитие возможно лишь в условиях идеологии экосоциогуманизма (возможно, антропоцентризма, новой экономической антропологии и др.). В любом случае, во- инствующий индивид с системой частной собственности и узким горизонтом планирования более не является носителем созидательного потенциала требуемого уровня креативности [1, 2].
Вторая группа исследователей (пока их большинство) не связывает причины длительного замедления социально-экономического развития с падающей «идеологической эффективностью» неолиберализма и стремятся найти рецепты преодоления стагнации в рамках действующей научной парадигмы [15, 16]. Эти исследователи считают неолиберальный экономико-идеологический концепт «концом истории» и «вершиной» ценностно-смысловых отношений; следует лишь найти «новые» алгоритмы и модели использования постулатов и функциональных форм действующей идеологии. При этом одниученые говорят об исчерпании так называемых «низко висящих» экономических плодов, связанных с потенциалом природных ресурсов, образованием, технологическими прорывами минувших лет и т.д. [23, 24].
Другие аналитики аргументируют феномен длительной стагнации «встречными ветрами», характеризуемыми углубляющимся социально-экономическим неравенством, сокращением занятости при низкой эффективности использования творчески-трудо-вого потенциала населения, накопленным государственным долгом, удорожанием энергоносителей и ужесточением экологических стандартов, что приводит к перманентному разрыву между потенциальным и фактическим ВВП и т.д. [24]. Есть теоретики, обосновывающие вывод о хронической стагнации недостаточным совокупным спросом (по сути, «кейнсианско-хансеновский» подход) из-за переизбытка совокупных сбережений при нулевых процентных ставках в условиях растущих рисков и институциональной неопределенности [25].
В отмеченных и многих других концептах идеологи неолиберализма вдействующей(«сущее») и проектной («должное») модели видят экономику, практически свободную от государственного вмешательства при безраздельном господстве либеральных рынков и цен, при свободе предпринимательской деятельности и защите прав частной собственности (именно частной, а не всех цивилитарных форм). При этом неоинституциональная «поправка» неолиберализма заключается лишь в смягчении императива максимизации полезности (доходности) и его замены реально возможным уровнем удовлетворения потребностей, с добавлением категории «экономическая трансакция» к категории «экономический агент». Однако сущность идеологии неолиберализма (приоритет частных благ над общими благами при воинствующем индивидуализме) не меняется; противоречия лишь несколько «сглаживаются», но не теряют своей неолиберальной имманентности.
Следовательно, пути выхода из социальноэкономической стагнации предлагаются в «лучших традициях» монетарно-фискальной плутократии, содержащей в свем арсенале любые меры и механизмы, однако исключительно в рамках «жесткого ядра» неолиберализма и частично затрагивающие лишь его «оболочку». В перечне этих мер повышение пенсионного возраста, приватизация объектов общей собственности, повышение налога на добавленную стоимость, включение механизма шумпетерианского «созидательного разрушения», реформа образования и здравоохранения, последовательная либерализация национальных и внешних рынков, монетарная экспансия, инвестиции в новые технологии и цифровизация экономики, программы по ликвидации бедности и многое другое. Однако, как свидетельствуют стилизованные факты, в том числе содержащиеся в таблицах 1 и 2 данного исследования, ситуация только усугубляется.
Интегральным результатом ретроспективы дискуссии о проблемах «вековой стагнации», являет вывод том, что странам лидирующей группы так и не удается мобилизовать творчески-трудовой потенциал собственников человеческого капитала и приблизиться к потенциальному ВВП. При этом по-прежнему углубляется межстрановое и внутристра-новое неравенство, не утихают торговые «войны», усиливается технологический и сырьевой колониализм, не дают ожидаемого эффекта новые информационно-коммуникационные технологии, расширенно воссоздается сеть «ловушек», активизируется поиск «плохой» ренты, углубляется деструкция производительных классов общества при одновременном развитии ментальной модели безудержного потребительства, нарстает региональный и общецивилизационный пессимизм. Главное, не формируется в массовом масштабе креативный класс, необходимый для креативной революции, поскольку идеология неолиберализма нацеливает дефицитные творческие ресурсы цивилизации в сторону обслуживания экономики «денег и зрелищ», то есть бесполезного сектора хозяйства. Очевидно, что решить задачу устойчивого прогрессивного мирового и регионального социально-экономического развития в рамках традиционной неолиберальной идеологии, базирующейся на индивидуализме и частной собственности, «бумажном» либо деспотическом государстве, «коротких» деньгах и экономических симулякрах при разрушающемся человеческом капитале, объективно не представляется возможным.
Заключение
Таким образом, начавшаяся и ускоряющаяся стагнация мирового и регионального социаль- но-экономического развития в период тотального господства неолиберализма нацеливает на качественное обновление смысловых и идеологических императивов, детерминирующих современную хозяйственную динамику. В связи с этим, важнейшим является вывод о том, что продолжающееся ментально-смысловое «шествие» неолиберальной экономической идеологии как основы реализации монетарной неоклассической и неоинституциональ-ной исследовательской программы, являющихся ценностным основанием современного социально-экономического развития, вызывает все больше сомнений среди ученых и практиков относительно созидательной «мощности» неолиберализма как такового. Становится очевидным, что длительность существования, а также растущее множество проявлений и усиливающаяся острота протекания социально-экономических дисфункций имеют, в конечном счете, не оперативно-дискреционную, а глубинно-идеологическую природу. Затянувшаяся стагнация мирового и регионального развития лишь «во-вторых» есть результат недостаточных инвестиций, недоработок в сфере фискально-монетарного регулирования либо иных субъективных ошибок правящих политико-экономических элит и экономических властей всех уровней.
Следовательно, длительная стагнация миро-вого,национального и регионального социальноэкономического развития, мягко интерпретируемая как «новая нормальность»,не может не быть «во-первых» результатом системного ценностно-смыслового провала экономической идеологии неолиберализма, что и подтверждает выдвинутую гипотезу исследования. Однако идеология неолиберализма отнюдь не является «конечной» на пути познания социально-экономической действительности, и что к жизни могут и должны быть вызваны альтернативные экономико-идеологические концепты. Очевидно, что качественная целостность новой экономической идеологии призвана обеспечить простор для творчески-трудовой энергии личности и общества не в рамках универсальной неолиберальной парадигмы,а в системе дисперсных моделей геосоциального развития, учитывающих креативно-интеллектуальную экологию конкретных людей и цивилизационную идентичность соответствующих региональных сообществ. При этом резонно предположить, что инновационная экономическая идеология может быть идеологией антропоцентризма или экосоциоцентризма, интегрирующая в себе личные,частные,обществен-ные и цивилизационные интересы, а также цели и задачи ноосферного, действительно гуманистически направленного социально-экономического развития.
С. 26-46.
Список литературы Неолиберализм как идеология стагнации социально-экономического развития
- Бузгалин А.В. Закат неолиберализма (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // Вопросы экономики. 2018. № 2. С. 122-142.
- Бузгалин А., Колганов А. «Рыночноцентрическая» экономическая теория устарела // Вопросы экономики. 2004. № 3. С. 36-50.
- Григорьев Л.М., Павлюшина В.А. Межстрановое неравенство: динамика и проблемы стадий развития // Вопросы экономики. 2018. № 7. С. 5-30.
- Данилов-Данильян В. Глобальный кризис как следствие структурных сдвигов в экономике // Вопросы экономики. 2009. № 7. С. 31-42.
- Дробышевский С.М., Трунин П.В., Божечкова А.В. Долговременная стагнация в современном мире // Вопросы экономики. 2018. № 11. С. 125-142.
- Идрисов Г., Мау В., Божечкова А. В поисках новой модели роста // Вопросы экономики. 2017. № 12. С. 5-24.
- Капелюшников Р. Идея «вековой стагнации»: три версии // Вопросы экономики. 2015. № 5. С. 104-134.
- Катуков Д.Д., Малыгин В.Е., Смородинская Н.В. Фактор созидательного разрушения в современных моделях и политике экономического роста // Вопросы экономики. 2019. № 7. С. 95-119.
- Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – 350 с.
- Клейнер Г.Б. Системный ресурс экономики // Вопросы экономики. 2011. № 1. С. 89-101.
- Клейнер Г.Б. Принцип двойственности в свете системной экономической теории // Вопросы экономики. 2019. № 11. С. 127-149.
- Клинов В. Сдвиги в мировой экономике в XXI веке: проблемы и перспективы развития // Вопросы экономики. 2017. № 7. С. 114-128.
- Кун Т. Структура научных революций. – М.: АСТ МОСКВА, 2009. – 317с.
- Любимов Л.И., Оспанова А.Г. Как сделать экономику сложнее? Поиск причин усложнения // Вопросы экономики. 2019. № 2. С. 36-54.
- Мау В.А. На исходе глобального кризиса: экономические задачи 2017-2019 гг. // Вопросы экономики. 2018. № 3. С. 5-30.
- Моисеев С.Р. «Ренессанс» монетаризма: чем жила знаменитая теория в 2000-2018 годах // Вопросы экономики. 2018. № 1. С. 26-45.
- Родрик Д. Когда идеи важнее интересов: предпочтения, взгляды на мир и инновации в экономической политике // Вопросы экономики. 2015. № 1. С. 22-45.
- Салихов Б.В. Салихова И.С. Системная парадигма в управлении экономикой корпоративных знаний: монография. – М.: Изд-во «МУ им. С.Ю. Витте», 2014. – 167 с.
- Салихова И.С., Окороков И.В. Научно-практические императивы развития методов управления корпоративными знаниями // Транспортное дело России. 2012. № 6-2. С. 133-136.
- Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.
- Тамбовцев В.Л. Идеи и интересы, экономическая политика и институты // Вопросы экономики. 2019. № 5. С. 26-46.
- Фридрих А. Хайек. Индивидуализм и экономический порядок. – М.: Изограф, 2000. – 256 с.
- Cowen T. (2011). The Great stagnation: How America ate all the low-hanging fruit of modern history, got sisk, and will (eventually) feel better. N.Y.: Penguin Group.
- Gordon R.J. (2012). Is U.S. economic growth over? Faltering innovation confronts the six headwinds. NBER Working Paper, No. 18315.
- Summers L.H. (2013b). Why stagnation might prove to be the new normal? The Financial Times, December 15.