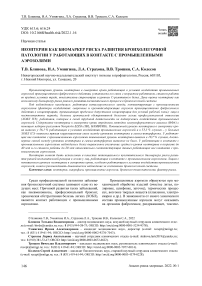Неоптерин как биомаркер риска развития бронхолегочной патологии у работающих в контакте с промышленными аэрозолями
Автор: Блинова Татьяна Владимировна, Умнягина Ирина Александровна, Страхова Лариса Анатольевна, Трошин Вячеслав Владимирович, Колесов Сергей Алексеевич
Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk
Рубрика: Медико-биологические аспекты оценки воздействия факторов риска
Статья в выпуске: 1 (37), 2022 года.
Бесплатный доступ
Проанализирован уровень неоптерина в сыворотке крови работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, установлена его связь с возрастом работников, стажем работы во вредных условиях труда, показателями спирометрии и уровнем С-реактивного белка. Дана оценка неоптерину как возможному биомаркеру риска раннего развития воспалительного процесса в бронхолегочной системе. Под наблюдением находились: работники металлургического завода, контактирующие с промышленными аэрозолями (факторы воздействия: сварочные и кремнийсодержащие аэрозоли преимущественно фиброгенного действия в концентрациях, превышающих предельно допустимые концентрации для условий рабочей зоны); лица в постконтактном периоде, больные хронической обструктивной болезнью легких профессиональной этиологии (ХОБЛ ПЭ); работники, которые в своей трудовой деятельности не подвергались воздействию промышленных аэрозолей. Содержание неоптерина в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью наборов реагентов Neopterin ELISA (IBL, HAMBURG). Повышенный уровень неоптерина в сыворотке крови выявлен у 56,1 % работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей и в 53,3 % случаев - у больных ХОБЛ ПЭ; выявлена прямая корреляционная связь между уровнями неоптерина и гамма-интерферона. У работающих вне контакта с промышленными аэрозолями повышенный уровень неоптерина выявлен в 18,7 % случаев, достоверных связей между уровнями неоптерина и гамма-интерферона выявлено не было. У работающих в контакте с промышленными аэрозолями наблюдалось более выраженное увеличение среднего уровня неоптерина в возрасте до 40 лет и со стажем работы до 20 лет относительно соответствующих данных работающих вне контакта с промышленными аэрозолями. Неоптерин может быть использован в качестве потенциального чувствительного биомаркера риска развития ранней воспалительной реакции в легких у лиц, работающих в контакте с промышленными аэрозолями. Лицам с повышенным уровнем неоптерина в сыворотке крови, особенно работающим в условиях воздействия промышленных аэрозолей, можно рекомендовать динамическое наблюдение за состоянием бронхолегочной системы.
Неоптерин, макрофаги, промышленные аэрозоли, бронхолегочная патология, фактор риска
Короткий адрес: https://sciup.org/142234503
IDR: 142234503 | УДК: 613.6,
Текст научной статьи Неоптерин как биомаркер риска развития бронхолегочной патологии у работающих в контакте с промышленными аэрозолями
Среди профессиональной патологии заболевания бронхолегочной системы занимают одно из ведущих мест. Причиной развития таких заболеваний, как пневмокониозы, профессиональный бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), является контакт работающих с промышленными аэрозолями.
Промышленные аэрозоли образуются при механической обработке изделий (очистке литья, полировке, шлифовке, заточке), термических процессах, возгонке твердых веществ (плавлении, электросварки и др.). В зависимости от своего химического состава промышленные аэрозоли могут оказывать на организм фиброгенное, раздражающее, токсиче-
ское, аллергизирующее, канцерогенное, ионизирующее действия1. Наиболее часто работающие в металлургическом производстве, машиностроении сталкиваются с аэрозолями фиброгенного действия. Влияние вредных веществ на уровне ПДК не исключает нарушение состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью2. Промышленные аэрозоли могут привести к острому, а при длительном контакте – к хроническому повреждению легких, сменяющемуся фиброзом.
Возможные последствия профессионального воздействия промышленных аэрозолей на здоровье работающих продолжают оставаться предметом исследований, а изучение патогенетических механизмов взаимодействия между частицами аэрозоля в воздухе рабочей зоны и клетками легочной ткани не утрачивает своего значения [1]. Среди промышленных аэрозолей высокой активирующей способностью по отношению к моноцитарно-макрофагальной системе обладают кремнийсодержащие и сварочные аэрозоли.
Макрофаги, циркулирующие в крови и находящиеся в легочной ткани, составляют первый защитный барьер от чужеродного агента. Альвеолярные макрофаги (АМ) играют основную роль в реализации механизмов мукозального иммунитета при проникновении различных патогенных веществ в слизистые оболочки дыхательных путей. Генерируя активные формы кислорода (АФК) и азота (АФА), АМ активно фагоцитируют и обезвреживают инфекционные агенты и являются центральными регуляторами воспаления [2, 3].
Макрофаги обладают высокой пластичностью и способностью к поляризации. Макрофаги фенотипа М1 отличаются выраженной цитотоксической и антимикробной активностью, при классической активации поддерживают воспалительный процесс в легочной ткани, выделяя провоспалительные цитокины (интерлейкины -1β, -6, -12, -23, фактор некроза опухоли альфа) и вызывая деструкцию в очаге воспаления [4]. Макрофаги фенотипа М2, активируясь по альтернативному пути, способствуют фиброгене-зу, пролиферативным процессам и регенерации тканей [5, 6].
Хроническое течение заболеваний легких связано, по-видимому, с «перепрограммированием» макрофагов в направлении профиля M2 [7]. Следует отметить, что легочные макрофаги активно фагоцитируют и обезвреживают инфекционные агенты, в то время как частицы аэрозоля полностью удалить не могут. Инертные частицы не разрушаются лизо- сомальным аппаратом макрофагов. Кроме того, аэрозоли, активируя бактерицидную кислородную систему макрофагов, повышают выработку активных форм кислорода и способствуют развитию ок-сидативного стресса. Свободные радикалы, образующиеся в избытке, разрушают фосфолипидную мембрану фагосом, в результате чего макрофаг погибает, частицы аэрозоля выделяются в окружающую среду, снова захватываются макрофагом, и, таким образом, процесс повторяется [8]. При активации и разрыве макрофагов происходит выброс протеаз и хемокинов, которые усиливают воспаление и впоследствии приводят к повреждению тканей [9]. Кроме того, активируются факторы, ответственные за приток макрофагов к месту осаждения аэрозолей, такие как колониестимулирующий фактор, фактор костномозговой пролиферации гранулоцитов. Возрастает синтез медиаторов воспаления, к которым относится неоптерин [10].
По современным представлениям, неоптерин является неспецифическим высокочувствительным маркером активации моноцитарного звена клеточного иммунитета. Неоптерин представляет собой птеридин, высвобождаемый специфическими иммунными клетками, в первую очередь макрофагами и моноцитами, во время активации специфического иммунного ответа Т-клеток при их стимуляции гам-ма-интерфероном (IFN-γ). Продукция неоптерина обычно напрямую связана с синтезом IFN-γ, который может высвобождаться клетками врожденного или адаптивного иммунитета, в частности, естественными клетками «киллерами». Количество синтезируемого неоптерина прямо пропорционально количеству IFN-γ [11]. Большое количество исследований посвящено роли неоптерина в развитии, течении и прогнозе сердечно-сосудистой патологии. Показано, что неоптерин является предиктором клинических исходов при хронических и острых формах ишемической болезни сердца (ИБС). Коронарные ангиографические исследования выявили, что уровень неоптерина в сыворотке зависит от прогрессирования ИБС у пациентов со стабильной стенокардией. Исследования многих авторов подтверждают его важную роль при оценке стабильности атероматозных бляшек при ИБС и мониторинге состояния пациентов после коронарного стентирования [12, 13]. Меньшее количество исследований посвящено выяснению значения неоптерина при заболеваниях легких. Результаты немногочисленных исследований показывают, что наблюдение за уровнем неоптерина может иметь диагностическое и прогностическое значение при заболеваниях, связанных с диоксидом кремния, таких как силикоз [14]. Рядом авторов неоптерин был рассмотрен как иммунологический биомаркер для оценки течения пневмокониоза у рабочих, добывающих уголь [15]. Была определена значимость неоптерина сыворотки крови как показателя воспалительного процесса и обострений при ХОБЛ [16–18].
Цель исследования – оценить уровень неоптерина в сыворотке крови работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, установить его связь с возрастом работников, стажем работы во вредных условиях труда, показателями спирометрии и уровнем С-реактивного белка; дать оценку неоптерину как возможному биомаркеру риска раннего развития воспалительного процесса в бронхолегочной системе.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 194 человека. Обследуемые были разделены на три группы:
– 1-я группа (опытная): работники одного из металлургических заводов Нижегородской области (57 человек (мужчины) в возрасте 39,1 ± 9,5 г., стаж работы – 13,8 ± 7,7 г.) подвергались воздействию сварочных и кремнийсодержащих аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (электрогазосварщики, стропальщики, резчики металла, фрезеровщики, вальцовщики);
– 2-я группа (контрольная): больные ХОБЛ ПЭ стабильного течения, вызванной длительным воздействием сварочных и кремнийсодержащих аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, находившиеся под наблюдением в клинике ФБУН ННИИГП Роспотребнадзора (30 человек (8 женщин и 22 мужчины) в возрасте 56,8 ± 7,8 г., стаж работы – 26,0 ± 8,0 г.). Модифицированный индекс Тиффно у всех больных составлял менее 70 % от должного. Диагноз ХОБЛ был поставлен на основании критериев Глобальной стратегии по диагностике и лечению ХОБЛ (Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease – GOLD, 2021) и клинических рекомендаций Российского респираторного общест-ва3. Профессиональная этиология болезни была доказана в ходе обследования согласно правилам, изложенным в Национальном руководстве по профессиональным заболеваниям органов дыхания (анализировалась санитарно-гигиеническая характеристика условий труда, учитывался стаж работы во вредных и опасных условиях труда, изучалась медицинская документация)4;
– 3-я группа (сравнения): работающие в разных сферах производства, которые в своей трудовой деятельности не подвергались воздействию промышленных аэрозолей (107 человек (49 мужчин и 58 женщин) в возрасте 40,8 ± 9,9 г., стаж работы – 13,9 ± 8,5 г.).
Лица 1-й и 3-й групп проходили периодический медицинский осмотр в консультативной поликлинике ФБУН ННИИГП Роспотребнадзора.
Из исследования были исключены лица с острыми инфекционными заболеваниями, злокачественными образованиями, сахарным диабетом, обострениями хронических заболеваний.
Оценка труда всех работающих проводилась в соответствии с ФЗ № 426 от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда»5. Согласно данной оценке содержание взвешенных веществ (пыли) в воздухе рабочей зоны у работающих 1-й группы непостоянно превышало предельно допустимые концентрации и соответствовало классу условий труда 3.1 («вредный» первой степени). Среднесменные значения пыли с содержанием диЖелеза триоксида на разных участках колебались от 0,65 до 7,2 мг/м3 (при ПДК 6,0 мг/м3), диоксида кремния (при содержании пыли от 10 до 70 %) – от 0,44 до 2,4 мг/м3 (ПДК 2,0 мг/м3), железа – от 1,65 до 2,6 мг/м3 (ПДК 10,0 мг/м3), электрокорунда – от 1,8 до 6,6 мг/м3 (ПДК 6,0 мг/м3), марганца (при его содержании до 20 %) – от 0,25 до 0,72 мг/м3 (ПДК 0,6 мг/м3). Максимальные уровни марганца, диоксида кремния, электрокорунда и диЖелеза триоксида в воздухе рабочих мест превышали ПДК до 1,1–1,2 раза (класс условий труда 3.1) у резчиков металла, фрезеровщиков, электрогазосварщиков. При выполнении сварочных работ содержание озона в зоне дыхания сварщика превышало ПДК в 1,1 раза. Уровень производственного шума на рабочих местах был выше предельно допустимого (более 80 дБА), достигая на некоторых участках производства 90–95 дБА (класс условий труда 3.2 («вредный» второй степени)). Общая оценка трудового процесса характеризуется классом условий труда 3.1–3.2 («вредный» первой и второй степеней).
Работа была выполнена с информированного согласия пациентов на участие в ней и одобрена локальным этическим комитетом ФБУН ННИИГП Роспотребнадзора.
У всех обследуемых изучалась функция внешнего дыхания при помощи спирометра SpirolabIII OXY (Италия) с оценкой следующих параметров:
форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ, % должн.), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1, % должн.), расчетное соотношение этих параметров (ОФВ1/ФЖЕЛ, %) – модифицированный индекс Тиффно (МИТ) и максимальная объемная скорость выдоха на уровне 75 % ФЖЕЛ (МОС 75 %).
Содержание неоптерина и IFN-γ в сыворотке крови определяли методом ИФА с помощью наборов реагентов Neopterin ELISA (IBL, HAMBURG) и «гамма-Интерферон-ИФА-БЕСТ» (АО «Вектор-Бест», Россия). Содержание С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови определяли методом ИФА с помощью набора реагентов «СРБ-ИФА-БЕСТ-высоко-чувствительный» (АО «Вектор-Бест», Россия) с пределом обнаружения 0,05 МЕ/л.
Для оценки содержания неоптерина в сыворотке крови в зависимости от возраста обследуемые 1-й и 3-й групп были разделены на четыре возрастные подгруппы: 25–30 лет, 31–40 лет, 41–50 лет, 51–60 лет и старше.
Для оценки содержания неоптерина в сыворотке крови в зависимости от стажа работы обследуемые 1-й и 3-й групп были разделены на три подгруппы: стаж работы 10 лет и менее, от 11 до 20 лет, более 20 лет.
Статистическая обработка результатов проводилась методами вариационной статистики на персональном компьютере с использованием программы Statistica 6.1 (StatSoft Inc., USA). С использованием критерия Шапиро – Уилка был проведен анализ нормальности распределения признаков и анализ равенства дисперсий. Для признаков, которые подчинялись нормальному распределению, анализ проводился методами параметрической статистики. Характеристика распределений оценивалась при вычислении средней арифметической (М) и среднеквадратического отклонения (δ). Достоверность различий средних величин между группами оценивалась с использованием параметрического t-критерия Стьюдента. Для оценки наличия или отсутствия линейной связи между двумя количественными показателями применялся критерий корреляции Пирсона. Для признаков, рас- пределения которых отклонялись от нормального, были использованы методы непараметрической статистики – критерий U Манна – Уитни. Данные представлены как Med ± IQR (25–75 %). Для оценки статистической значимости различий нескольких относительных показателей (частот) был использован непараметрический метод – критерий согласия χ2 (критерий Пирсона).
Критический уровень значимости результатов исследования принимался при p < 0,05. Значения p от 0,05 и до 0,1 включительно расценивались как тенденция.
Результаты и их обсуждение. Гендерных различий в содержании неоптерина в сыворотке крови и частоте выявления его повышенного уровня (более 10,0 нмоль/л) у работающих и больных ХОБЛ ПЭ выявлено не было ( p > 0,05). Данные о содержании неоптерина в сыворотке крови и частота выявления его повышенного уровня у обследуемых лиц разных групп представлены в табл. 1.
Анализ полученных данных показал, что концентрация неоптерина в сыворотке крови обследуемых колебалась от 2,8 до 21,9 нмоль/л. Его средняя величина была наибольшей в сыворотке крови работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей (группа 1) и больных ХОБЛ ПЭ (группа 2). При этом величина неоптерина в сыворотке крови больных ХОБЛ ПЭ была достоверно выше его величины у работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей ( p 1–2 = 0,009). У работающих вне контакта с промышленными аэрозолями концентрация неоптерина находилась в пределах референсных значений и достоверно отличалась от его значения в первых двух группах ( р 1–3 = 0,0001; р 2–3 = 0,0001). Повышенные уровни неоптерина (более 10,0 нмоль/л) были выявлены у половины работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей и больных ХОБЛ ПЭ – у 56,1 и 53,3 % соответственно. У работающих, не контактирующих с промышленными аэрозолями, повышенные уровни неоптерина выявлялись в 2,8–3 раза реже – у 18,7 %.
Таблица 1
Концентрация неоптерина в сыворотке крови и частота выявления его повышенного уровня у работающих и больных ХОБЛ ПЭ
|
Показатель |
Обследованные |
||
|
группа 1, опытная, n = 57 |
группа 2, контрольная, n = 30 |
группа 3, сравнения, n = 107 |
|
|
Концентрация неоптерина (нмоль/л), M ± δ |
10,4 ± 1,7 |
11,9 ± 2,3 |
7,5 ± 1,8 |
|
р ( t -критерий Стьюдента) |
p 1–2 = 0,009; р 1–3 = 0,0001; р 2–3 = 0,0001 |
||
|
Частота выявления повышенного уровня неоптерина (более 10,0 нмоль/л), абс. (%) |
32 (56,1) |
16 (53,3) |
20 (18,7) |
|
р* ; критерий χ2 |
χ2 = 0,528; p 1–2 =0,468; χ2 = 24,086; p 1–3 < 0,001; χ2 = 14,514; p 2–3 < 0,001 |
||
П р и м е ч а н и е : р ( t -критерий Стьюдента) – достоверность различий в содержании неоптерина между обследуемыми группами; р* (критерий χ2) – достоверность различий в частоте выявления повышенных концентраций неоптерина между обследуемыми группами.
Таблица 2
Концентрация неоптерина в сыворотке крови и частота выявления его повышенного уровня у работающих разного возраста
|
Возрастная подгруппа |
|||||||
|
подгруппа 1 (от 25 до 30 лет) |
подгруппа 2 (от 31 до 40 лет) |
подгруппа 3 (от 41 до 50 лет) |
подгруппа 4 (от 51 до 60 лет) |
||||
|
группа 1, опытная, n = 23 |
группа 3, сравнения, n = 12 |
группа 1, опытная, n = 11 |
группа 3, сравнения, n = 35 |
группа 1, опытная, n = 13 |
группа 3, сравнения, n = 39 |
группа 1, опытная, n = 10 |
группа 3, сравнения, n = 21 |
|
Возраст (лет), M ± 3 |
|||||||
|
28,4 ± 1,6 |
27,5 ± 2,1 |
38,1 ± 1,19 |
37,8 ± 1,15 |
43,0 ± 2,44 |
43,3 ± 3,43 |
54,0 ± 2,8 |
55,0 ± 3,2 |
|
р 1–3 |
= 0,19 |
р 1–3 = |
0,41 |
р 1–3 |
= 0,91 |
р 1–3 |
0,92 |
|
Концентрация неоптерина (нмоль/л), M ± 3 |
|||||||
|
9,1 ± 2,7 |
6,3 ± 2,1 |
12,0 ± 2,9 |
7,6 ± 2,5 |
11,7 ± 2,7 |
8,2 ± 2,6 |
10,7 ± 1,6 |
7,7 ± 2,5 |
|
р 1-3 * |
= 0,007 |
р 1-3 * = |
0,0001 |
р 1-3 * |
0,001 |
р 1-3 * |
0,008 |
|
Частота выявления повышенного уровня неоптерина (более 10,0 нмоль/л), абс. (%) |
|||||||
|
9 (39,1) |
0 (0) |
6 (54,5) |
4 (11,4) |
9 (69,2) |
10 (25,6) |
8 (80,0) |
6 (28,5) |
|
Х 2 = |
8,37; |
Х 2 = 12,538; |
Х 2 = 10,517; |
Х 2 = 10,608; |
|||
|
„ ** p 1-3 |
=0,004 |
p 1-3 ** < 0,001 |
p 1-3 |
=0,002 |
„ ** p 1-3 |
=0,002 |
|
П р и м е ч а н и е :
р (t- критерий Стьюдента) - достоверность различий в возрасте в каждой возрастной подгруппе между группами 1 и 3;
р* ( t -критерий Стьюдента) - достоверность различий в содержании неоптерина в каждой возрастной подгруппе между группами 1 и 3;
p** (критерий х 2 ) — достоверность различий в частоте выявления повышенных концентраций неоптерина в каждой возрастной подгруппе между группами 1 и 3.
В табл. 2 представлены уровни неоптерина у работающих разного возраста в опытной группе (группа 1) и группе сравнения (группа 3). Анализ полученных данных показал, что наименьшая величина неоптерина у работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей и вне контакта с ними была выявлена у лиц в возрасте от 25 до 30 лет (9,1 ± 2,7 и 6,3 ± 2,1 нмоль/л соответственно). При этом уровень неоптерина в данной возрастной подгруппе достоверно отличался от его значений у обследованных лиц в возрасте от 31 до 60 лет ( р = 0,002 для группы 1 и р = 0,039 для группы 3 ( t -критерий Стьюдента)). Следует отметить, что во всех возрастных подгруппах у работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей (группа 1) концентрация неоптерина в сыворотке крови была достоверно выше ее значений у работающих вне контакта с промышленными аэрозолями (группа 3) (р 1-з * = 0,007 для возрастной подгруппы от 25 до 30 лет; р 1-3 * = 0,0001 - от 31 до 40 лет; р 1-3 * = 0,001 - от 41 до 50 лет; р 1-3 * = 0,008 - от 51 до 60 лет).
Частота выявления повышенного уровня неоптерина (более 10,0 нмоль/л) увеличивалась с возрастом в обеих группах (от 39,1 до 80,0 % в группе 1 и от 0 до 28,5 % в группе 3). Данный показатель во всех возрастных подгруппах у работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей был достоверно выше его значения у работающих вне контакта с промышленными аэрозолями (р 1-3 * = 0,004 для возрастной подгруппы от 25 до 30 лет; р 1-3 * < 0,001- от 31 до 40 лет; р 1-3 * = 0,002 - от 41 до 50 лет; р 1-3 * = 0,002 - от 51 до 60 лет).
Большинство больных ХОБЛ ПЭ находились в возрасте старше 50 лет. Уровень неоптерина у лиц данной группы не отличался от его значений в группе 1 в возрастных подгруппах 2, 3 и 4 ( р 1–2 = 0,42 – от 31 до 40 лет; р 1–2 = 0,42 – от 41 до 50 лет; р 1–2 = 0,41 – от 51 до 60 лет, t -критерий Стьюдента). Частота выявления повышенного уровня неоптерина (более 10,0 нмоль/л) также не отличалась от данного показателя в группе 1 в возрастных подгруппах 2, 3 и 4 (Х2 = 0,005, p 1-2 =0,9 - от 31 до 40 лет; х 2 = 0,94, p 1-2= 0,33 - от 41 до 50 лет; х 2 = 2,222, p 1-2 =0,137 -от 51 до 60 лет).
Концентрация неоптерина в сыворотке крови работающих и частота выявления его повышенного уровня в зависимости от стажа работы представлена в табл. 3.
Анализ полученных данных показал, что в стажевых подгруппах 1 и 2 с увеличением стажа работы уровень неоптерина в сыворотке крови увеличивался как в опытной группе, так и в группе сравнения ( р = 0,004 для группы 1; р = 0,01 для группы 3). У работающих со стажем работы более 20 лет (подгруппа 3) уровень неоптерина не отличался от его значений у работающих со стажем от 11 до 20 лет и 10 лет и менее. Частота выявления повышенного уровня неоптерина увеличивалась в зависимости от стажа работы в обеих группах (от 33,3 до 90,0 % в группе 1 и от 12,1 до 27,3 % в группе 3). Данный показатель во всех стажевых подгруппах у работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей был достоверно выше его значения у работающих вне контакта с промышленными аэрозолями (р 1-3 ** = 0,024 для стажевой подгруппы
Таблица 3
Концентрация неоптерина в сыворотке крови и частота выявления его повышенного уровня у работающих с различным стажем работы
|
Стажевая подгруппа |
|||||
|
подгруппа 1 (10 лет и менее) |
подгруппа 2 (от 11 до 20 лет) |
подгруппа 3 (более 20 лет) |
|||
|
группа 1, опытная, n = 24 |
группа 3, сравнения, n = 58 |
группа 1, опытная, n = 23 |
группа 3, сравнения, n = 16 |
группа 1, опытная, n = 10 |
группа 3, сравнения, n = 33 |
|
Концентрация неоптерина (нмоль/л), M ± 5 |
|||||
|
9,2 ± 2,8 |
7,7 ± 2,1 |
11,5 ± 2,5 |
8,5 ± 2,6 |
10,9 ± 1,4 |
7,8 ± 2,9 |
|
р 1-3 * = |
0,009 |
р 1-3 * = |
0,001 |
р 1-3 * = |
0,002 |
|
Частота выявления повышенного уровня неоптерина (более 10,0 нмоль/л), абс. (%) |
|||||
|
8 (33,3) |
7 (12,1) |
15 (65,2) |
4 (25,0) |
9 (90,0) |
9 (27,3) |
|
χ2 = 5,136; р 1-3** = 0,024 |
χ2 = 6,109; р 1-3** = 0,014 |
χ2 = 12,4; р 1-3** < 0,001 |
|||
П р и м е ч а н и е :
р* (t -критерий Стьюдента) - достоверность различий в содержании неоптерина в каждой стажевой подгруппе между группами 1 и 3;
р** (критерий х 2 ) — достоверность различий в частоте выявления повышенных концентраций неоптерина в каждой стажевой подгруппе между группами 1 и 3.
10 лет и менее; р 1-3 ** = 0,014 - от 11 до 20 лет; р 1-з ** < 0,001 — более 20 лет).
Проведен анализ взаимосвязи уровня неоптерина в сыворотке крови работающих с показателями спирометрии. Данные представлены в табл. 4.
В результате проведенных исследований выявлено, что у работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей показатели ОФВ 1 и МОС 75 % были ниже по сравнению с данными показателями у работающих вне контакта с промышленными аэрозолями ( р 1–3 =0,042 для ОФВ 1 ; р 1–3 =0,015 для МОС 75 %). Тенденция к обратной коррелятивной связи была отмечена только между уровнем неоптерина и показателем МОС 75 % ( R = -0,26, р = 0,06).
В табл. 5 представлены результаты исследований уровней СРБ и IFN-γ в сыворотке крови обследованных лиц.
Анализ содержания СРБ в сыворотке крови обследованных лиц показал, что концентрация СРБ колебалась от 0,5 до 15,0 мг/л. Его средняя величина была наибольшей в сыворотке крови больных ХОБЛ ПЭ и достоверно отличалась от его величины у работающих 1-й и 3-й групп (р 1-2 = 0,001; р2-3 = 0,0001). Различий в концентрации СРБ у работающих 1-й и 3-й групп выявлено не было (р1–3 = 0,32). Повышенный уровень СРБ (более 8,0 мг/л) был выявлен у 15,7 % работающих в контакте с промышленными аэрозолями, у 19,7 % работающих вне контакта с ними и у 50,0 % больных ХОБЛ ПЭ. Не было выявлено корреляционной связи между неоптерином и СРБ.
Анализ содержания IFN-γ в сыворотке крови обследованных лиц показал, что концентрация IFN-γ находилась в пределах референсных значений в группах работающих и больных ХОБЛ ПЭ (см. табл. 5). Однако уровень IFN-γ был достоверно выше у работающих в контакте с промышленными аэрозолями и больных ХОБЛ ПЭ относительно лиц, которые в своей производственной деятельность не контактировали с промышленными аэрозолями ( р 1-2 = 0,82; р 1-з = 0,004; р 2-3 = 0,005).
Таблица 4
Показатели спирометрии и корреляционные связи данных спирометрии с уровнем неоптерина в сыворотке крови работающих
|
Показатель, M ± 8 |
Обследованные |
|||
|
группа 1, опытная, n = 57 |
группа 3, сравнения, n = 107 |
р 1-3 |
R |
|
|
ФЖЕЛ, % долж. |
105,0 ± 15,6 |
109 ± 14,7 |
0,12 |
-0,07, р = 0,57 |
|
ОФВ 1 , % должн. |
97,4 ± 13,6 |
102 ± 13,1 |
0,042 |
-0,11, р = 0,38 |
|
МИТ, % |
92,8 ± 7,7 |
94,3 ± 9,0 |
0,23 |
-0,03, р = 0,81 |
|
МОС 75 % |
70,3 ± 20,8 |
80,4 ± 26,3 |
0,015 |
-0,26, р = 0,06 |
П р и м е ч а н и е :
р i- 3 ( t- критерий Стьюдента) - достоверность различий в показателях спирометрии между группами 1 и 3;
R - коэффициент корреляции Пирсона между уровнем неоптерина в сыворотке крови работающих (группы 1 и 3) и показателями спирометрии.
Таблица 5
Концентрации СРБ и IFN-γ в сыворотке крови и частота выявления их повышенных уровней у работающих и больных ХОБЛ ПЭ
|
Показатель |
Обследованные |
||
|
группа 1, опытная, n = 57 |
группа 2, контрольная, n = 30 |
группа 3, сравнения, n = 107 |
|
|
Концентрация СРБ (мг/л), Med ± IQR (25–75 %) |
4,9 (1,94–7,29) |
9,25 (4,4–16,2) |
3,57 (1,49–6,99) |
|
р |
p 1–2 = 0,001; р 1–3 = 0,32; р 2–3 = 0,0001 |
||
|
Частота выявления повышенного уровня СРБ (более 8,0 мг/л), абс. (%) |
9 (15,7) |
15 (50,0) |
21 (19,7) |
|
р* |
χ2 = 8,124, p 1–2 = 0,005; χ2 = 3,547, p 1–3 = 0,06; χ2 = 12,4, p 2–3 < 0,001 |
||
|
Концентрация IFN-γ (пг/л), M ± δ |
1,24 ± 0,85 1 |
1,25 ± 0,91 1 |
0,88 ± 0,59 |
|
р** |
p 1–2 = 0,82; р 1–3 = 0,004; р 2–3 = 0,005 |
||
|
Частота выявления повышенного уровня IFN-γ (более 20,0 пг/мл), абс. (%) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
П р и м е ч а н и е :
р (критерий Манна – Уитни) – достоверность различий в содержании СРБ между группами 1, 2 и 3;
p* (критерий χ2) – достоверность различий в частоте выявления повышенных концентраций СРБ между группами 1, 2 и 3;
р** ( t -критерий Стьюдента) – достоверность различий в содержании IFN-γ между группами 1, 2 и 3.
Корреляционный анализ выявил прямую связь уровня IFN-γ с уровнем неоптерина у работающих 1-й и 2-й групп – R = 0,35, р = 0,04 и R = 0,48, р = 0,01 соответственно. У работающих вне контакта с промышленными аэрозолями (группа 3) выявлена тенденция к связи неоптерина с IFN-γ ( R = 0,18, р = 0,08). Однако у работающих данной группы с высоким уровнем неоптерина в сыворотке крови была выявлена достоверная прямая корреляционная связь уровней неоптерина с IFN-γ ( R = 0,51, р = 0,01).
Таким образом, полученные результаты показали, что у работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей в 56,1 % случаев выявлен повышенный уровень неоптерина в сыворотке крови, который обнаружен и у больных ХОБЛ ПЭ (53,3 % случаев), что предполагает негативное воздействие промышленных аэрозолей на бронхолегочную систему работающих лиц. У работающих вне контакта с промышленными аэрозолями повышенный уровень неоптерина выявлялся в три раза реже. Синтез неоптерина связан с IFN-γ, что подтверждает прямая корреляционная связь уровней неоптерина с IFN-γ, более выраженная у лиц, контактирующих с промышленными аэрозолями или находящихся в постконтактном периоде. Это свидетельствует о возможном участии стимулированного клеточного иммунитета в развитии и прогрессировании бронхолегочных заболеваний.
Выявлены общие закономерности и различия в изменении уровней неоптерина и частоте обнаружения его повышенного значения у работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей и вне контакта с ними. Средняя величина уровня неоптерина увеличивалась у всех работающих в возрасте только в пределах до 40 лет. При этом у работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей средняя величина неоптерина превышала величину его референтных значений (до 10,0 нмоль/л), в то время как у работающих вне контакта с промышленными аэрозолями уровень неоптерина находился в пределах референтных значений во всех возрастных группах. Частота повышенного уровня неоптерина увеличивалась у всех работающих в зависимости как от возраста, так и от стажа работы, однако более выраженное увеличение наблюдалось улиц, работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей. Возможно, что увеличение уровня неоптерина в зависимости от стажа работы обусловлено тем, что группу работающих со стажем работы до 10 лет составляли лица молодого возраста (от 25 до 30 лет). Однако нельзя исключить влияние на содержание неоптерина в сыворотке крови более длительного контакта работающих с промышленными аэрозолями.
Исследования ряда авторов указывают на связь неоптерина с возрастом. Согласно их выводам остается неясным, отражают ли более высокие значения уровней неоптерина нормальное течение иммунного старения в здоровом организме или это может быть связано с более высокой частотой пациентов, страдающих от недиагностированных заболеваний, которые сопровождаются повышением уровня неоптерина. Авторами выявлено слабое линейное увеличение уровней неоптерина с возрастом обследуемых, которое начиналось между третьим и четвертым десятилетиями, что позволило предположить, что повышение уровня неоптерина можно рассматривать как часть физиологического иммунного процесса старения у людей, хотя нельзя исключать и альтернативное объяснение – возникновение поздних возрастных заболеваний [19, 20].
По современным представлениям большинство авторов рассматривают неоптерин как высокочувствительный маркер воспалительного процесса [21]. Проведенный сравнительный анализ уровней неоптерина с СРБ позволил предположить, что неоптерин является более специфичным маркером, отражающим воспалительный процесс в бронхолегочной системе. Повышенные уровни неоптерина наблюдались у работающих в контакте с промышленными аэрозолями и у больных ХОБЛ ПЭ более чем в 50,0 % случаев, в то время как уровень СРБ был повышен с одинаковой частотой как у работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей, так и вне контакта с ними (15,7 и 19,7 % соответственно). При этом величина СРБ в сыворотке крови между группами работающих не различалась, а достоверные различия в уровне СРБ были выявлены только между работающими и больными ХОБЛ ПЭ.
Отражая начальную стадию воспалительного процесса в легких, неоптерин может дать представление о ранних изменениях в состоянии мелких бронхов и бронхиол у работающих в условиях воздействия промышленных аэрозолей, о чем свидетельствует тенденция к обратной коррелятивной связи между уровнем неоптерина и показателем МОС 75 % (р = 0,06).
Таким образом, неоптерин может явиться диагностическим показателем развития ранних воспалительных процессов в бронхолегочной системе, обусловленных в том числе контактом с промышленны- ми аэрозолями. С одной стороны, неоптерин можно представить в качестве биомаркера эффекта, который экспрессируется активированными макрофагами легких в результате воздействия на них чужеродного агента, каким являются промышленные аэрозоли. С другой стороны, неоптерин отражает активацию макрофагального звена иммунитета, вызванную воздействием промышленных аэрозолей, что является, по-видимому, важным патогенетическим механизмом развития патологии легких, обусловленной воздействием промышленных аэрозолей.
Полученные данные указывают на необходимость дальнейшего изучения неоптерина не только как биомаркера эффекта и риска раннего развития бронхолегочной патологии, но и для определения его клинической значимости и прогностического иммунологического критерия при профессиональной патологии легких. Полученные данные могут явиться стимулом для дальнейшего развития клинических и экспериментальных исследований с целью изучения иммунопатогенеза бронхолегочных заболеваний и поиска новых иммунологических биомаркеров для ранней диагностики, прогноза течения, разработки новой терапевтической стратегии профессиональных заболеваний легких с введением иммуномодулирующих препаратов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Список литературы Неоптерин как биомаркер риска развития бронхолегочной патологии у работающих в контакте с промышленными аэрозолями
- Radnoff D., Todor M.S., Beach J. Occupational exposure to crystalline silica at Alberta work sites // J. Occup. Environ. Hyg. - 2014. - Vol. 11, № 9. - Р. 557-570. DOI: 10.1080/15459624.2014.887205
- Macrophage receptors and immune recognition / P.R. Taylor, L. Martinez-Pomares, M. Stacey, H.-H. Lin, G.D. Brown, S. Gordon // Annu. Rev. Immunol. - 2005. - Vol. 23. - Р. 901-944. DOI: 10.1146/annurev.immunol.23.021704.115816
- Alveolar macrophages have a protective antiinflammatory role during murine pneumococcal pneumonia / S. Knapp, J.C. Leemans, S. Florquin, J. Branger, N.A. Maris, J. Pater, N. van Rooijen, T. van der Poll // Am. J. Respir. Crit. Care Med. -2003. - Vol. 167, № 2. - Р. 171-179. DOI: 10.1164/rccm. 200207-698OC
- Macrophage plasticity and polarization in tissue repair and remodeling / A. Mantovani, S.K. Biswas, M.R. Galdiero, A. Sica, M. Locati // J. Pathol. - 2013. - Vol. 229, № 2. - Р. 176-185. DOI: 10.1002/path.4133
- Swirski F.K., Nahrendorf M. Leukocyte behavior in atherosclerosis, myocardial infarction, and heart failure // Science. - 2013. - Vol. 339, № 6116. - Р. 161-166. DOI: 10.1126/science.1230719
- Modulation of monocyte / macrophage function: a therapeutic strategy in the treatment of acute liver failure / L.A. Possamai, M.R. Thursz, J.A. Wendon, C.G. Antoniades // J. Hepatol. - 2014. - Vol. 61, № 2. - Р. 439-445. DOI: 10.1016/jjhep.2014.03.031
- A systemic granulomatous response to Schistosoma mansoni eggs alters responsiveness of bone-marrow-derived macrophages to Toll-like receptor agonists / A.D. Joshi, Т. Raymond, A.L. Coelho, S.L. Kunkel, C.M. Hogaboam // J. Leukoc. Biol. - 2008. - Vol. 83, № 2. - Р. 314-324. DOI: 10.1189/jlb.1007689
- Macrophages: Their role, activation and polarization in pulmonary diseases / S. Arora, K. Dev, B. Agarwal, P. Das, M.A. Syed // Immunobiology. - 2018. - Vol. 223, № 4-5. - Р. 383-396. DOI: 10.1016/j.imbio.2017.11.001
- The lung environment controls alveolar macrophage metabolism and responsiveness in type 2 inflammation / F.R. Svedberg, S.L. Brown, M.Z. Krauss, L. Campbell, C. Sharpe, M. Clausen, G.J. Howell, H. Clark [et al.] // Nat. Immunol. -2019. - Vol. 20, № 5. - Р. 571-580. DOI: 10.1038/s41590-019-0352-y
- Mosser D.M., Edwards J.P. Exploring the full spectrum of macrophage activation // Nat. Rev. Immunol. - 2008. -Vol. 8, № 12. - Р. 958-969. DOI: 10.1038/nri2448
- Neopterin as a marker of cellular immunological response / L. Michalak, M. Bulska, K. Strzqbala, P. Szczesniak // Postepy Hig. Med. Dosw. (Online). - 2017. - Vol. 71, № 1. - Р. 727-736. DOI: 10.5604/01.3001.0010.3851
- Neopterin and cardiovascular events following coronary stent implantation in patients with stable angina pectoris / T. Yoshiyama, K. Sugioka, T. Naruko, M. Nakagawa, N. Shirai, M. Ohsawa, M. Yoshiyama, M. Ueda // J. Atheroscler. Thromb. -2018. - Vol. 25, № 11. - Р. 1105-1117. DOI: 10.5551/jat.43166
- Kaski J.C. Neopterin for prediction of in-hospital atrial fibrillation - the 'forgotten biomarker' strikes again // J. Intern. Med. - 2018. - Vol. 283, № 6. - Р. 591-593. DOI: 10.1111/joim.12761
- Neopterin as a new biomarker for the evaluation of occupational exposure to silica / Z.Z. Altindag, T. Baydar, A. Isimer, G. Sahin // Int. Arch. Occup. Environ. Health. - 2003. - Vol. 76, № 4. - Р. 318-322. DOI: 10.1007/s00420-003-0434-9
- Neopterin as a marker for immune system activation in coal workers' pneumoconiosis / O.C. Ulker, B. Yucesoy, M. Durucu, A. Karakaya // Toxicol. Ind. Health. - 2007. - Vol. 23, № 3. - Р. 155-160. DOI: 10.1177/0748233707083527
- Diagnostic and Prognostic Value of Inflammatory Parameters Including Neopterin in the Setting of Pneumonia, COPD, and Acute Exacerbations / A. Pizzini, F. Lunger, A. Sahanic, N. Nemati, D. Fuchs, G. Weiss, K. Kurz, R. BellmannWeiler // COPD. - 2017. - Vol. 14, № 3. - Р. 298-303. DOI: 10.1080/15412555.2016.1266317
- The links between chronic obstructive pulmonary disease and comorbid depressive symptoms: role of IL-2 and IFN-y / J. Rybka, S.M. Korte, M. Czajkowska-Malinowska, M. Wiese, K. K^dziora-Kornatowska, J. K^dziora // Clin. Exp. Med. - 2016. -Vol. 16, № 4. - Р. 493-502. DOI: 10.1007/s10238-015-0391-0
- Клинико-диагностическое значение исследования неоптерина при инфаркте миокарда на фоне хронической обструктивной болезни легких / А.В. Наумов, Т.В. Прокофьева, Л.В. Сароянц, О.С. Полунина // Кубанский научный медицинский вестник. - 2018. - Т. 25, № 2. - С. 121-126. DOI: 10.25207/1608-6228-2018-25-2-121-126
- Serum levels of the immune activation marker neopterin change with age and gender and are modified by race, BMI, and percentage of body fat / M.E. Spencer, A. Jain, A. Matteini, B.A. Beamer, N.-Y. Wang, S.X. Leng, N.M. Punjabi, J.D. Walston, N.S. Fedarko // J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. - 2010. - Vol. 65, № 8. - Р. 858-865. DOI: 10.1093/gerona/glq066
- Ecological, parasitological and individual determinants of plasma neopterin levels in a natural mandrill population / S.E. Dibakou, A. Souza, L. Boundenga, L. Givalois, S. Mercier-Delarue, F. Simon, F. Prugnolle, E. Huchard, M. Je Charpentier // Int. J. Parasitol. Parasites Wildl. - 2020. - Vol. 11. - Р. 198-206. DOI: 10.1016/j.ijppaw.2020.02.009
- Гладких Р.А., Молочный В.П., Полеско И.В. Неоптерин как современный маркер воспаления // Детские инфекции. - 2016. - Т. 15, № 2. - С. 19-23. DOI: 10.22627/2072-8107-2016-15-2-19-23