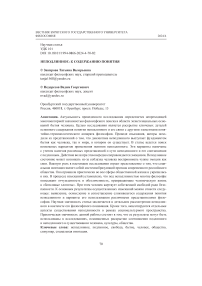Неподлинное: к содержанию понятия
Автор: Закирова Т.В., Недорезов В.Г.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
Актуальность проведенного исследования определяется непреходящей многовекторной значимостью философского поиска в области экзистенциальных оснований бытия человека. Целью исследования является раскрытие ключевых деталей основного содержания понятия неподлинного и его связи с другими элементами понятийно-терминологического аппарата философии. Проводя изыскания, авторы исходили из представлений о том, что диалектика неподлинного выступает фундаментом бытия как человека, так и мира, в котором он существует. В статье ведется поиск возможных вариантов применения понятия неподлинного. Эти варианты намечены с учетом наличия различных представлений о сути неподлинного и его соотношения с подлинным. Действие воли при этом нередко сопровождается эмоциями. Неподлинное состояние может возникать из-за соблазна человека воспринимать чужие эмоции как свои. Важную роль в настоящем исследовании играет представление о том, что социальная имитация являет собой системообразующий признак современного российского общества. Она проникла практически во все сферы общественной жизни и укрепилась в них. В процессе изысканий установлено, что под неподлинностью многие философы описывают отчужденность и обезличенность, превращающие человеческую жизнь в «боязливые хлопоты». При этом человек жертвует собственной свободой ради безопасности. К основным результатам осуществленных изысканий можно отнести следующее: выявление, осмысление и сопоставление сложившегося содержания понятия неподлинного и варианты его использования различными представителями философии. Научная значимость статьи заключается в детальном рассмотрении неподлинного в контексте его философского понимания. Кроме того, акцентируются отдельные аспекты существования неподлинности в рамках социокультурного пространства. Практическая значимость данной работы состоит в том, что ее результаты могут быть использованы в исследованиях, посвященных раскрытию соотношения подлинного и неподлинного в существовании человека, культуры, общества.
Неподлинное, подлинное, свобода, бытие, человек, общество, симулякр, социальная имитация
Короткий адрес: https://sciup.org/148330168
IDR: 148330168 | УДК: 101 | DOI: 10.18101/1994-0866-2024-4-70-82
Текст научной статьи Неподлинное: к содержанию понятия
Закирова Т. В., Недорезов В. Г. Неподлинное: к содержанию понятия // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2024. Вып. 4. С. 70–82.
Введение. В наши дни категория бытия является наиболее общим элементом понятийно-терминологического аппарата философии и наряду с этим – самым «пустым», изобилующим «белыми пятнами». Поэтому всякое исследование, посвященное раскрытию тайн бытия, в том числе касающихся неподлинного в нем, допустимо полагать актуальным. Исследовательский интерес к проблеме неподлинного существования наблюдается с момента возникновения философии. Такой интерес свойственен любой эпохе, культуре и философскому направлению. Надо полагать, что причина этого состоит в необходимости создания теоретических предпосылок различения подлинного и неподлинного и, как следствие, для побуждения человека к выбору достойного жизненного пути, на котором он сможет полноценно раскрыть свои потенции.
В современном мире наблюдается жесткая конкуренция между сверхдержавами. При этом сложившееся положение вещей характеризуется наличием множества самобытных мировоззрений, религиозных и идеологических ориентаций. В данной ситуации вопрос о возможности самостоятельной и осознанной квалификации чего-либо как подлинного или же неподлинного обретает особую остроту.
При проведении исследования было установлено, что понимание сути проблемы подлинности постоянно подвергается изменениям. В процессе таких перемен проявляются совершенно новые грани общественной жизни. В современном обществе особенности подлинности могут проявляться в манипулятивно-репрессивном влиянии, которое оказывается массовыми средствами взаимодействия на людей. В наши дни все сферы общественной жизни пронизываются процессами симуляции. Не мудрено, что во многих исследованиях внимание обращается прежде всего на предметы, связанные с верным пониманием подлинности или неподлин-ности определенных фрагментов окружающей действительности. Весьма актуальным для исследователей является вопрос, связанный с границей, отделяющей подлинную реальности от симулированной. Ответы на данный и связанные с ним вопросы могут кардинально повлиять на существование сложившихся конфигураций ментальности людей. Исследователи при этом нередко указывают, что различия между подлинным и неподлинным становятся все более размытыми.
Для достижения цели исследования, состоящей в раскрытии ключевых деталей основного содержания понятия неподлинного и уточнения особенностей его связи с другими элементами понятийно-терминологического аппарата философии, были поставлены и решены следующие задачи:
-
- исследовать значение и основные варианты использования понятия неподлинного;
-
- выявить эвристическую ценность содержания понятия неподлинного;
-
- проанализировать симулякр и социальную имитацию как проявления неподлинного.
Основой методологии осуществленного философского поиска выступили диалектический и герменевтический подходы, эвристический потенциал которых реализовывался посредством сопряженного применения методов анализа, синтеза и экстраполяции. Методологически важными для настоящего исследования явились идеи, свойственные экзистенциальной философии.
Значение и основные варианты применения понятия неподлинного. Пробуждения человека к истинно человеческой нравственной жизни во все времена являлись актуальной задачей философии. Но борьба за человеческое в человеке велась и ведется в условиях противодействия сил, ориентированных массовое введение людей в заблуждение относительно соотношения подлинного и неподлинного [26].
Философы-экзистенциалисты указывают на существенные различия между тем, что в жизни человека следует полагать подлинным, а что неподлинным. К неподлинному они относят то рутинное, обыденное, вписанное в установленные рамки, что появляется в жизни человека по его желанию, дает освобождение от ответственности, но при этом лишает свободы [1, с. 10].
В процессе исследования было выяснено, что в гносеологии экзистенциализма прослеживается тенденция к полному отказу от присущего рационалистически ориентированной философии противопоставления субъекта и объекта. Само существование воспринимается как совместное бытие человека и окружающего мира вместе с другими людьми. При этом противопоставление субъекту миру остается за кадром. Истинное положение вещей может быть постигнуто посредством интуитивного погружения человека в свои личные переживания, а не при помощи рационального познания, выстраиваемого на основании противопоставления субъекта и объекта познания. Можно сказать, что с точки зрения экзистенциализма корректно осуществляемая познавательная деятельности подразумевает активные решения, которые принимаются самим человеком, ориентирующимся на свои собственные цели. Именно это придает значимость окружающему миру. Например, К. Ясперс пишет, что Д. Бруно верил, а Г. Галилей знал. Инквизиция же требовала от обоих, чтобы они отказались от своих идей. Ясперс подчеркивает, что Бруно не стал предавать свою веру и в результате умер мученической смертью. А вот Галилей, хоть формально и отрекся от ранее провозглашаемого, все равно в глубине себя сохранил убежденность в своей правоте, ведь вера является той истиной, которая переживается всей душой человека [25, с. 66].
А. Камю развивает мысль о том, что мир, окружающий человека, абсурден, неупорядочен и лишен цели. Кроме того, в нем нельзя найти хоть какую-нибудь закономерность. В эссе «Миф о Сизифе» Камю сравнивает жизнь человека с бесплодным трудом многострадального персонажа античной мифологии [11, с. 45].
Оказавшись в ситуации «удобного бытия», человек нередко ощущает тяготение к подлинному, находящему выражение в восприятии происходящего как чего-то бессмысленного и неправильного. Однако люди боятся самоуглубления, боятся тишины, когда совесть шепчет им на ухо нечто важное, и потому они «оглушают» себя общением с друзьями, чтением газет, посещением увеселительных заведений, то есть делают все, лишь бы сбежать от самих себя. Вследствие этого у людей формируется и закрепляется привычка жить стадной массовой жизнью, не приходя в сознание, ибо сознания для такой пустой и поверхностной жизни вовсе не нужно, достаточно рефлексов, условных и безусловных [21].
К. Ясперс указывает на большую свободу подлинного существования в сравнении с неподлинным. Пишет он и том, что подлинное существование требует от человека ответственности при совершении избранных действий. Данная мысль используется философом для описания особенностей процесса обретения свободы как выбора своей сущности [35].
Процесс перехода к неподлинному возможен исключительно в рамках ситуаций, которые можно считать пограничными. Такой ситуацией стоит полагать нахождение человека перед лицом смерти, когда он осознает смысл своего подлинного существование. Именно в момент осознания человек обретает свободу [28, с. 168].
Пока человек делает выбор, он берет на себя ответственности за все, что при этом происходит. На выбор человека не могут оказать влияние ни Бог, ни какие бы то ни было обстоятельства окружающего мира, помогающие реализовать действительно присущий ему потенциал. Сама свобода может восприниматься человеком как довольно тяжкое бремя, которое ему приходиться нести в процессе своего становления. Необходимо обратить внимание на то, что человек может в любой момент отказаться от нее, но при этом он неминуемо погружается в безликий мир, который можно считать неподлинным. Реализация свободы предполагает самостоятельность, на основе которой человек формулирует собственные цели и по мере возможностей достигает их [29, с. 241].
М. Хайдеггер считает, что различение подлинного и неподлинного является универсальным актом, затрагивающим самые разные человеческие отправления. Эти отправления порой противопоставляются моральному различению добра и зла. Именно здесь обнаруживаются поступки, которые могут быть признаны этически нейтральными [32, с. 15]. Стоит, правда, заметить, что сама область мышления нередко предлагает человеку более и или менее широкий спектр искушающих его возможностей неподлинности.
Хайдеггер, как известно, исследует проблему подлинного и неподлинного, обращаясь к модусу повседневного бытия человека. Способ повседневного бытия человека занимает здесь центральную позицию. В работе «Бытие и время» Хайдеггер подчеркивает онтологическое значение «усредненной обыденности», которое, будучи онтически ближайшим и известным, «есть онтологически самое далекое, неузнанное и в его онтологическом значении постоянно просмотренное». Если онтологическая легитимация, признание, актуализация повседневности состоялись, то это значит, что неподлинное предстает не как умаление (или недостаток) подлинного, а как онтологически равноправная с подлинным, хотя и радикально отличная априорная структура экзистенциального бытия Dasein — по крайней мере, в его нынешнем, постгреховном состоянии. То есть даже в режиме «средней повседневности» и «забвения себя» раскрывается бытие человека, поэтому подлинное и неподлинное как коррелятивные друг другу характеристики не могут существовать друг без друга; они применимы только к человеческому бытию и невозможны по отношению к наличному, внутримирному сущему [32, с. 96].
Цикличность повседневности определяется цикличностью природы. Повседневная цикличность не сводится к природной, она интегрирует ее в себя, подчиняя собственным реалиям. Кроме того, повседневное здесь очеловечивается, поскольку оно являет собой реальность именно человеческого бытия, фундированного взаи-мосоотнесенностью подлинного и неподлинного [34, с. 25].
Человек естественным образом вписан в самые различные жизненные циклы. Более того, о человеческой жизни допустимо вести речь как о проистекающей из принципа цикличности непроизвольной самоорганизации [14, с. 242]. Иначе говоря, цикличность для человека вполне естественна.
Важное значение имеет то, какой именно образ жизни ведет человек, в какой степени он раскрывает его подлинность и неподлинность. При этом необходимо обратить внимание, что подлинное принято полагать способом существования человека. Именно подлинное помогает развертывать и актуализировать личность. А вот неподлинное считается способом каждодневного существования, ведущего к отчуждению человека самого себя [33, с. 152]. Надо полагать, что отмеченное выше свидетельствует о том, что содержание данного исследования тесно связано с тем, каким образом человек осознает собственное и подлинное, что есть себя как личность.
С. Кьеркегор [14] и М. Хайдеггер [32] в процессе рассмотрения состояния неподлинности не только уходят от использования отрицательных оценок, но и не прибегают при этом к эпитетам, более или менее явно предполагающим отрицательное отношение к нему. При обсуждении состояния подлинности противоположный ряд эпитетов ими также не применяется. С точки зрения экзистенциализма главным препятствием для адекватного отражения окружающей действительности выступает вполне определенно выраженная тенденция к групповой консолидации и активности группового сознания, которое ощущает раздражение от инакомыслия и проявляет стремление навязывать собственные представления об истинном и должном остальным. Именно это усиливает асимметрию между субъектом-транслятором и субъектом-адресатом; при отсутствии данного обстоятельства коммуникация не была бы полуправдой [16, с. 120].
Еще в начале XX в. Европа оказалась в состоянии цивилизационного кризиса, а сами европейцы утратили былую аутентичность. Кризис наук, ставший явным в данный период, был вызван, согласно Э. Гуссерлю, именно этим обстоятельством [4].
В процессе исследования было установлено, что личностная подлинность как проецируется человеком вовне, так и может открываться в нем, хотя изначально все выглядит так, как будто ее нет [15]. Именно по данной причине ее необходимо обнаружить. А для этого требуется выстраивать и организовать подлинно личностную интенциональность восприятия и коммуникации.
С. Кьеркегор отстаивает нормативное измерение перехода от неподлинности к подлинности, в котором усматриваются три стадии существования: эстетическая, этическая и религиозная. Они не обладают равным статусом в том смысле, что существование этики выше самого существования эстетики [14]. Однако данную мысль Кьеркегора трудно истолковать однозначно позитивно.
Эвристическая ценность содержания понятия неподлинного. Существование неподлинности принято, как правило, полагать вполне естественным. При этом С. Кьеркегор трактует естественность в качестве невинности или предела естественности [14]. Вместе с тем сама невинность не считается идеалом существования человека или предпочтительной моделью. Ф. Ницше, впрочем, восхищается невинностью детей и зверей [20]. Стоит заметить, что подобное состояние не имеет преимуществ относительно других состояний. Наряду с этим преимуществ нет и у таких состояний, к которым не принадлежит невинность, и в чьих рамках в минимальной степени присутствует полноценное понимание человеком своей сущности. Признание данного положения вещей позволяет усматривать разрыв между пониманием и дальнейшими действиями. Необходимо обратить внимание и на то, что именно по данной причине люди нередко допускают ироничное отношение к себе со стороны окружающих.
Таким образом, с одной стороны, состояние неподлинности, выступающее полной или частичной утратой человеком самого себя, практически не дает ему сколько-нибудь явных жизненных преимуществ [17]. Тем не менее с другой стороны, преимущества указанного состояния могут быть обнаружены при его сравнении с состоянием невинности, максимального и интенсивного присутствия потенций или возможностей [13].
Эвристическая ценность понятия неподлинности заключается в его конкретном и позитивном значении, которое обсуждается в трудах С. Кьеркегора [14] и М. Хайдеггера [32].
В процессе исследования было установлено, что с чисто формальным определением подлинности связано проявление многочисленных проблем. Само по себе существование неподлинно исключительно тогда, когда в нем есть расхождение с сущностью. Но если сущность человека не артикулирована с должной однозначностью, то в такой ситуации выявление ее соответствия или же несоответствия существованию невозможно. При этом следует признать допустимой гипотезу об эвристической ценности апофатического определения подлинности [26].
-
Н. А. Бердяев указывает на связь личностной ипостаси человека и неподлин-ности бытия. Осмысливая оторванность человека от Бога как источник непод-линности человеческого бытия, философ вполне резонно, надо полагать, уделяет внимание экзистенциальному аспекту данной проблемы [2].
Н. П. Полторацкий [22] фокусирует внимание на том, что этика Бердяева [2] существенным образом персонифицирована. Причем нравственные поступки, по мысли исследователя, должны выступать предметом этики права, искупления и творчества [22]. Здесь же стоит обратить внимание и на представления европейских философов о социальности как факторе, определяющем неподлинность человека [7, с. 153].
И. А. Ильин [10] полагает возможным преодоление неподлинности человека, расходясь в этом с Бердяевым [2]. Согласно Ильину, чувство фальши и неискренности появляется как результат выпадения «Луча Божия». Грех при этом ведет к страданию, а благо сострадания может повлечь за собой духовность, самопознание, очищение и отдачу. Важной для философа является идея духовного очищения человека, позволяющая преодолевать его неподлинность. При этом Ильин полагает неподлинность неотъемлемой частью блаженного состояния. В данном состоянии в равной степени содержатся такие качества, как настойчивость, самообладание и сила характера. Бытие, как полагает Ильин, может вернуть такие качества человеку [10].
Атеистическое направление экзистенциализма нередко фокусируется на описании жажды власти, характерной для людей. Люди при этом стремятся подавлять свободы остальных людей собственной воле. Практически все философы, полагающие такое представление верным, прямо или косвенно указывают, что действия всех людей определяются страхом за собственную жизнь и намерением оградить себя от этого. По данной причине люди стремятся к тому, чтобы занять в обществе как можно более выгодное положение. Под таким положением чаще всего подразумевается место, занимая которое человек получает властные полномочия. Люди, наделенные полномочиями соответствующего рода, обычно оказываются более защищенными в сравнении с окружающими, что придает их жизни комфортный характер. В стремлении людей вести такую жизнь философы-экзистенциалисты усматривают основную причину их несвободы.
Симулякр и социальная имитация как проявления неподлинного. В процессе исследования было установлено, что «симулякр» является понятием, довольно широко использующимся в текстах философов. В этих текстах указанное понятие чаще всего применяется для обозначения того, в чем неверно результируется процесс воссоздания окружающей действительности. При этом симулякр допустимо полагать копией оригинала, обладающей сходством с ним и воплощающейся в жизнь в качестве подделки, то есть именно как неподлинное.
Е. А. Савельева [24, с. 378], исследующая особенности эвристического потенциала концепции Ж. Бодрийяра [3, с. 120], констатирует, что «симулякр» есть не что иное, как подобие чего-либо, выражаемое через его копии, какие-либо знаки.
В настоящее время, когда имитация приобрела статус ключевого элемента структуры общества, искусственные явления, замещающие естественные, стали восприниматься как что-то органическое [27]. Распространение имитационных процессов и их результатов в жизни общества обязательно отражается в общественном сознании, способствуя увеличению имитационности социальных практик. Социальные имитационные практики создают видимую имитационную реальность, которая формирует контекст существования индивидуумов, социальных групп и общества в целом.
Сегодня продукты этих практик символически обрабатываются и обычно институционализируются [19]. Манипулятивный характер таких практик приводит к тому, что люди принимают не подлинные образы социальной реальности и воспринимают свою жизнь как игру в вымышленном мире [23]. Эти практики соседствуют с конструктивными в социальной реальности и часто преобладают над ними.
Социальные имитационные практики можно рассматривать как средства, способствующие виртуализации общественной жизни, придавая важность виртуальным явлениям перед сущностными. В настоящее время имитация заменяет инновационную деятельность в различных областях общественной жизни. Даже сама инновационная деятельность подвергается имитации, но результаты, достигнутые ею, не копируются другими и, следовательно, не внедряются в общественную жизнь для ее улучшения. Лидеры различных сфер общественной жизни часто имитируют ориентацию на инновации в своих действиях, а государство поддерживает видимость инноваций. Это приводит к социальной деструкции. Замещение инноваций имитациями в массовом масштабе негативно сказывается на творческой сфере деятельности многих людей.
Роль имитации в жизни общества, ее сущность связана с процессами социального действия, направленными на замену предметно-смысловой реальности неподлинным. Коммуникативно-символическая природа этой темы остается актуальной, несмотря на то, что она была детально изучена в социально-гуманитарном знании.
Социокультурное преобразование современного российского общества связано с использованием имитационных стратегий и практик, созданием искусственных симулятивных образов массового сознания. Эти явления возникают в различных сферах общественной жизни и оказывают значительное влияние как на социальные процессы, так и на массовую психологию. Это обусловлено прежде всего общими направлениями и практиками политической элиты, являющейся доминирующим социальным субъектом. Их воздействие ощущается на социальном климате, социокультурной среде, ценностных ориентациях и психологии масс [31].
В современном российском обществе имитация представляет собой концепт, выведенный путем логического обобщения и классификации форм и практик создания подходящих категорий. Введение понятия имитации в качестве социально-философской категории в научный оборот позволяет концептуализировать и теоретически осмыслить искажение социальной определенности.
Ряд отечественных исследователей убедительно аргументирует тезис о том, что современному российскому обществу присуще масштабное распространение имитационных практик и стратегий практически во всех сферах общественной жизни. Так, О. В. Мартьянов отмечает, что «современная Россия строится на основаниях имитации, а социальные институты лишь воспроизводят внешнюю форму без наполнения её реальным социальным содержанием» [18, с. 23]. С. А. Королёв полагает, что «имитационный характер социальных практик стал значимым фактором социокультурной динамики российского общества» [12, с. 65]. По мнению Я.В. Ушаковой, «имитации пронизывают практически все сферы общественной жизни современной России, подменяя собой реальные процессы и превращая социальные взаимодействия в чисто символическую деятельность»
[30, с. 147]. Данные исследователи сходятся во мнении, что социальная имитация приобрела системный характер и может рассматриваться как одна из базовых характеристик современного российского общества.
Это искажение базируется на процессах социального действия актеров, связанных с замещением предметно-смысловой реальности путем создания символической социальной реальности.
Содержательно-смысловое наполнение понятия «симулякр» воплощается в некоторых вариантах виртуальной реальности. Эти варианты характеризуется различной степенью соответствия той реальности, которую следует признать подлинной [5]. Все существующие обстоятельства «помогают» симулякру в процессе осуществления социально-имитационного процесса порождения собственной реальности. Такая реальность возникает в тесной связи с такими процессами, как подделка, производство и симуляция [9].
В процессе исследования было выяснено, что «симулякр» подразумевает под собой симптом призрачного существования. Это обстоятельство существенным образом определяет то, что жизнь индивидов, отдельных групп и всего общества протекает в условиях ослабления чувства реальности или его полной утраты. При этом укорененность представлений о реальности в сознании людей по большей части иллюзорна. В связи с этим люди довольно часто с легкостью поддаются манипуляции.
Стоит подчеркнуть, что под самим «симулякром» должна подразумеваться не простая имитация, а действие, из-за которого сама идея образца может быть опровергнута. В связи с этим Ж. Делез показывает стабильную ориентацию на действие, осуществляемое в мыслительном пространстве, применительно к которому идентичность образцу допустимо полагать заблуждением [6, с. 92].
Неподлинное экзистенциальное состояние нередко производит впечатление хоть и довольно тягостного, но вполне приемлемого, так как человек с ним свыкается. Тем не менее приемлемым оно может казаться человеку только потому, что он забывает о себе как личности. Такое состояние может в то же время стать невыносимым особенно если складывается ситуация, когда человек оказывается в духовной зависимости от чуждых ему сил. Имеет смысл обратить внимание на то, что современное общество нельзя считать симуляцией, но если уйти от внешнего мира и обратиться к внутреннему миру человека, то можно заметить, что в настоящее время нет сколько-нибудь надежных оснований для утверждения о наличии связи между социальными реалиями и подлинным содержанием человеческой жизни [8].
Состояние соответствующего рода наблюдается, например, при возвращении человека домой, когда он стремится отдохнуть, отключиться от происходящего. Данное состояние капсулирует такую ситуацию, но капсулирует совершенно по-разному в каждом из возможных случаев. При этом человек порой просто сидит дома и чувствует скуку, будучи убежденным, что его в жизни ничего интересного уже не случится. Такое состояние бывает относительно терпимым, но оно может оказаться и нетерпимым, когда человек начинает ощущать невыносимость самого существования. При этом даже комната, в которой он находится, иногда становится невыносимой для него, кажется ему настоящим «адом» [4, с. 127].
Заключение. В процессе исследования были установлены основные значения и варианты использования понятия неподлинного. Кроме того, авторы пришли к пониманию того, что условием протекания процессов, в рамках которых подлинное переходит в неподлинное, выступает наличие пограничных ситуаций, способствующих смысложизненному самопределению человека. При этом свобода воспринимается человеком как тяжкое бремя, от которого он может отказаться и погрузиться в мир обыденности, то есть в мир неподлинного бытия.
Осмысление эвристической ценности понятия неподлинного позволило выявить то, что соответствующее состояние является вполне естественным. Состояние неподлинности не приносит никакой пользы, поскольку при его наличии человек претерпевает утрату самого себя. В то же время существуют представления о его преимуществах по отношению к состоянию невиновности. Ценность неподлин-ности заключается, в частности, в его конкретном и позитивном значении. При этом само существование человека неподлинно только в тех случаях, когда оно расходится с сущностью. В случаях подобного рода появляется необходимость признания того, что продуктом существования человека может оказаться «неправильная» сущность. Непродуктивным можно считать понимание человеком собственной подлинности как исключительно надежной основы правильного понимания сущности недостоверности.
Анализ симулякра и социальной имитации как проявлений неподлинного дал возможность показать эвристическую ценность соответствующих понятий. В частности, понятие симулякра принято применять при обсуждении феномена, воплощающего в себе то, что возникает при искажающем воссоздании жизненных реалий. Симулякр есть, по сути, неполноценная копия чего-то реально существующего, а его подделка, то есть то, что недостоверно изначально-сущностно. Его присутствие в конкретном фрагменте действительности являет собой свидетельство отсутствия в нем реального. При этом симулякр возникает и существует как концентрированное выражение социальной имитации.
Завершая изложение результатов осуществленного исследования, следует отметить, что приоритетным вектором дальнейших изысканий может стать, прежде всего, раскрытие особенностей диалектики подлинного и неподлинного.
Список литературы Неподлинное: к содержанию понятия
- Акименко Г. В. Концепция человеческого существования в русской и европейской философии конца XIX — начала XX в. // Дневник науки. 2023. № 7(79). URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1701976545&tld (дата обращения: 18.08.2024). Текст: электронный.
- Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. Москва: Правда, 1989. 608 с. Текст: непосредственный.
- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции / перевод с французского А. Качалова. Москва: ПОСТУМ, 2015. 240 с. Текст: непосредственный.
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Москва: Дом интеллектуальной книги, 1999. 489 с. Текст: непосредственный.
- Даунинг Петерс Л. Условность подлинности // Теория моды: одежда, тело, культура. 2022. № 3(65). С. 279–285. Текст: непосредственный.
- Делез Ж. Различие и повторение: перевод с французского Н. Б. Маньковской, Э. П. Юрковской. Санкт-Петербург: Петрополис, 1998. 384 с. Текст: непосредственный.
- Дорофеев Д. Ю. Философская антропология подлинного и неподлинного: современная проблематизация человеческой личности и образа жизни // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2022. Т. 6, № 3. С. 127–154. Текст: непосредственный.
- Дубровский Д. И. Обман. Философско-психологический анализ. Москва, 2010. 336 с. Текст: непосредственный.
- Закирова Т. В. Феномен симулякра как проявление социальной имитации // Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. № 7(168). С. 50–53. Текст: непосредственный.
- Ильин И. А. Путь к очевидности. Москва: Республика, 1993. 430 с. Текст: непосредственный.
- Камю А. Бунтующий человек. Москва: ТЕРРА-Книжный клуб, 1999. 414 с. Текст: непосредственный.
- Королёв С. А. Псевдоморфоза как категория социальной философии // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Философия. 2015. № 2. С. 62–74. Текст: непосредственный.
- Костин П. А. Философия ответственности в освоении целостности социального бытия // Logos et Praxis. 2020. Т. 19, № 1. С. 43–50. Текст: непосредственный.
- Кьеркегор С. Страх и трепет / перевод с датского С. А. Исаева. Москва: Республика, 1993. 488 с. Текст: непосредственный.
- Малинкин А. Н. Концепция феноменологии Макса Шелера. Шелер vs Гуссерль. Москва: Русская школа, 2019. 230 с. Текст: непосредственный.
- Малышев В. Б. Фундаментальность языка в контексте проблемы онтологической подлинности // Вестник Самарского государственного технического университета. Сер. Философия. 2019. № 2(2). С. 118–127. Текст: непосредственный.
- Марсель Г. О смелости в метафизике: сборник статей / перевод с французского В. П. Визигина. Москва: Наука, 2012. Текст: непосредственный.
- Мартьянов О. В. Имитационные практики в современной России: природа и последствия // Власть. 2018. Т. 26, № 6. С. 21–26. Текст: непосредственный.
- Мухамеджанова Н. М. Социальная имитация: сущность и предпосылки возникновения // Манускрипт. 2019. Т. 12, № 10. С. 171–174. Текст: непосредственный.
- Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей: перевод с немецкого Е. Герцык и других. Москва: Культурная революция, 2005. 880 с. Текст: непосредственный.
- Политов А. В. Переживание падшести и неподлинности наличного бытия как модус экзистирования в хронотопе современности // Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право. 2018. № 3. С. 60–71. Текст: непосредственный.
- Полторацкий Н. П. Бердяев и Россия (Философия истории России у Н. А. Бердяева). Нью-Йорк: Общество друзей русской культуры, 1967. 262 с. Текст: непосредственный.
- Саакян А. Г., Серкова В. А. Национальные культуры и проблемы национальной идентичности в эпоху глобализма // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2018. Т. 9, № 1. С. 72–79. Текст: непосредственный.
- Савельева Е. А. Симулякр как новое социокультурное понятие в теории Жана Бодрийяра // Научный потенциал студенчества в XXI веке: материалы IV Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Ставрополь, 2010. Т. 2: Общественные науки. С. 378–379. Текст: непосредственный.
- Сатыбалдиева К. К. Истоки формирования философии бытия Токтогула Сатылганова // Известия Национальной академии наук Кыргызской Республики. 2019. № 1. С. 65–68. Текст: непосредственный.
- Серкова В. А. Трансформация реальности в концепции Жана Бодрийяра // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2017. Т. 8, № 1. С. 92–98. Текст: непосредственный.
- Сиверцев Е. Ю. Миф. Подлинное и неподлинное бытие // Вопр. гуманитар. наук. 2011. № 3. С. 14–19. Текст: непосредственный..
- Слободянюк Н. Л. Экзистенциальность мышления новых медиа // Вестник Кыргызско-Российского cлавянского университета. 2023. Т. 23, № 6. С. 166–172. Текст: непосредственный.
- Урузбакиева З. К. Социальная философия образования как философия жизни человека // Известия вузов Кыргызстана. 2022. № 3. С. 240–244. Текст: непосредственный.
- Ушакова Я. В. Имитация в контексте современного российского политического процесса // Теория и практика общественного развития. 2014. № 19. С. 145–148. Текст: непосредственный.
- Федье Ф. Воображаемое. Власть. Москва: Эдиториал УРСС, 2022. С. 35–92. Текст: непосредственный.
- Хайдеггер М. Что зовется мышлением / перевод Э. Сагетдинова. Москва: Территория будущего, 2006. 320 с. Текст: непосредственный.
- Шалютин Б. С. Человек лгущий // Человек. 1996. № 5. С. 151–159. Текст: непосредственный.
- Шалютин Б. С. О вызовах приматологической революции, эмпатическом познании и природе когнитивного отрыва человека от обезьяны // Философский журнал / Philosophy Journal. 2019. Т. 12, № 4. С. 15‒31. Текст: непосредственный.
- Ясперс К. Всемирная история философии / перевод К. В. Лощевского. Санкт-Петербург: Наука, 2000. 272 с. Текст: непосредственный.