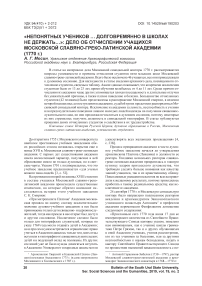"Непонятных учеников... долговремянно в школах не держать...": дело об отчислении учащихся Московской славяногреко-латинской академии (1770 г.)
Бесплатный доступ
В статье на материалах дела Московской синодальной конторы 1770 г. рассматриваются вопросы успеваемости и причины отчисления студентов пяти младших школ Московской славяно-греко-латинской академии. Всего было исключено 46 учащихся, все они принадлежали к духовному сословию. Для наглядности в статье сведения архивного дела, посвященного отчислению студентов, сведены в таблицу. Анализ данных показывает, что ко времени исключения студентам было от 13 до 23 лет, время обучения колебалось от 4 до 11 лет. Среди причин отчисления из академии чаще других упоминается плохая посещаемость и длительные отлучки без уважительной причины, а также плохое поведение и болезни. Большинство отчисленных студентов (42 человека) были представлены в распоряжение Московской епархии, в ведении которой находились до поступления в академию, судьбой троих предстояло распорядиться Московской синодальной конторе. Исключение из академии за леность, неспособность к учению или предосудительное поведение лишало молодых людей надежды на получение священнослужительского сана, но они продолжали числиться в духовном сословии, поэтому некоторые из них стремились получить должность в синодальной типографии. В статье публикуются прошения двоих отчисленных студентов о содействии в их трудоустройстве.
История русской церкви, духовное образование в России, московская славяно-греко-латинская академия, успеваемость студентов
Короткий адрес: https://sciup.org/147231646
IDR: 147231646 | УДК: 94(470) | DOI: 10.14529/ssh190203
Текст научной статьи "Непонятных учеников... долговремянно в школах не держать...": дело об отчислении учащихся Московской славяногреко-латинской академии (1770 г.)
До открытия в 1755 г. Московского университета наиболее престижным учебным заведением обеих российских столиц оставалась открытая еще в конце XVII в. Московская славяно-греко-латинская академия. С первых дет существования академия имела всесословный характер, получаемое в ней образование имело не только духовные, но и светские черты. Указом 1701 г. подтверждалось, что это учебное заведение предназначается «для ученья всякого чина людей» [3, с. 52].
На протяжении второй половины XVIII столетия в составе учащихся Московской славяно-греколатинской академии происходили существенные изменения, на которые обратил внимание исследователь истории этого учебного заведения С. К. Смирнов:
«При митрополите Платоне1 Академия московская приняла по своему составу исключительное значение духовно-учебного заведения: в нее были принимаемы только дети священно- и церковнослужителей, тогда как прежде в нее открыт был доступ и другим сословиям. Исключение сделано было только для типографских служителей, которые по указу 1769 года могли отдавать детей в Академию; но и при сем в указе встречается ограничение: право учиться в Академии давалось только тем, коих отцы вступили в типографию из священнослужительских детей и в подушный оклад не положены. Из других сословий уже не было нужды домогаться вступать в Академию: Университет и народные школы могли удовлетворять всех желающих просвещения» [4, с. 338].
Процесс превращения академии в чисто духовное учебное заведение начался до утверждения архиепископа Платона (Левшина) в должности ее ректора. Усилиями нескольких ректоров славяно-греко-латинская академия превратилась в главную кузницу кадров приходского духовенства, что требовало уделять больше внимания как качеству знаний учащихся, так и их нравственному облику. Повседневные увещания педагогов не всегда приводили к желаемому результату, поэтому приходилось прибегать к такому радикальному средству, как исключение из академии.
24 сентября 1770 г. в Московскую синодальную контору было направлено подписанное ректором академии и архимандритом Заиконоспасского училищного монастыря Антонием 2 и префектом академии иеромонахом Феофилактом доношение следующего содержания:
«Присланным сего 1770 года июня 17 дня ее императорского величества из Святейшего Правительствующего Синода канторы указом, повелено нам имянованным, как о ученике школы грамматики Петре Грязеве, так и о других обучающихся в оной Академии учениках, учинив разсмотрение, кто из тех учеников за болезнию, или за другими неспособностьми к наукам безнадежны, подать в кантору Святейшего Правительствующего Синода по прошествии нынешней вакации ведомость с по- казанием, коликих кто лет, чьих отцов дети, сколь давно во обучении находятся, какого состояния, не имеется ли за кем дел и подозрений и за чем имянно к продолжению наук впредь неспособны; так же и полученным из Святейшего Правительствующего Синода указом сего сентября 16 дня предписано, чтоб непонятных учеников, которые к продолжению наук никакой надежды о себе не подают, долго-времянно в школах не держать; в силу которых ее императорского величества указов нами разсмотри-вано и по засвидетельствованию учителей оказалось безнадежными к продолжению наук всех 46 человек, а по каким имянно причинам, о том явствует в приложенном при сем реестре» [2, л. 1 — 1 об.].
Упомянутым выше указом Синода, полученным в Московской синодальной конторе 17 сентября, предписывалось: «Непонятных учеников, которые к продолжению наук никакой надежды о себе не подают, таковых долговремянно в школах не держать, и кои из них окажутся за неимением способных даровании, или за болезми, к учению неспособны, а в пороках и в побегах не бывали, оных производство к местам оставить на разсмотрение преосвященных архиереов, а ежели из семинаристов найдутся таковые, которые побегами, худыми поступками и развратным нравом себя опорочили, с теми поступать по 9-му Духовного регламента второй части о делах епископов пункту, в коем изображено, чтоб учеников, которой из них крайне туп или хотя и остроумен, да развращен и упрям, и непобедимой лености, отпускать от школы, отняв им всю надежду чина священнического неотменно» [2, л. 16].
Согласно ведомости 1769 г., в семи школах академии обучалось 288 человек, в том числе в школе богословия было 28 учеников («окончивших богословское учение» — семь, «слушающих третий год богословию» — одиннадцать, «слушающих другой год богословию» — двое и «слушающих первый год богословию» — восемь), в школе философии — 27, риторики — 53, пиитики — 40, синтаксимы — 55, грамматики — 34 и аналогии — 51 ученик [1, л. 3 — 26 об.]. С учетом того, что учащихся двух старших школ, богословия и философии, в упоминаемом выше реестре не значится, отчислению подлежало почти 20 % учащихся пяти низших школ.
Судя по всему, поводом для составления реестра «безнадежным к продолжению наук» послужило прошение учащегося школы грамматики Петра Грязева об отчислении его из академии по состоянию здоровья. В «Ведомости присланным в кантору Святейшего Синода из Московской Академии сего сентября 24-го дня непонятным ученикам» отмечено: «Оной Грязев в канторе Святейшего Синода июня 11-го дня просил о уволнении ево от Академии за болезнию. И по определению велено как об оном, так и о протчих непонятных представить ведомостью по окончании вакации» [2, л. 13].
Сведения о 46 отчисляемых из академии студентах, содержащиеся в реестре 1770 г., обобщены в приводимой ниже табл. 1.
Таблица 1
Сведения о студентах Московской славяно-греко-латинской академии, отчисленных в 1770 г.
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Чьих отцов дети |
Возраст |
Начало учебы |
Оценка поведения. Причина отчисления |
|
Школы риторики |
|||||
|
1 |
Назаров Алексей |
Сретенского сорока ц. Сергия Чудотворца, что в Пушкарях, свящ. Алексея Стефанова |
23 |
1760 |
Худого состояния. За непонятием, частыми и продолжительными отлучками от школы |
|
2 |
Левитов Михайло |
Московской епархии полкового свящ. Ивана Иванова |
20 |
17691 |
Состояния безподозрительно-го (далее — б/п). За своевольною долговременною отлучкою в Санкт-Петербург и поныне |
|
3 |
Юстинов Петр |
Китайского сорока Знаменского м-ря умершего диакона Юстина Васильева |
22 |
1761 |
За двулетним побегом |
|
4 |
Быков Иван |
Боровского уезда ц. Сергия чудотворца, что в с. Могутове, бывшего пономаря Петра Григорьева |
21 |
1759 |
Худого состояния и развращенных нравов. За всегдашними долговременными побегами и худым состоянием |
|
5 |
Снигиревский Василий |
Большого Успенского собора умершего пономаря Ивана Алексеева |
21 |
1759 |
Состояния б/п. За непонятием и многолетною примечаемою в нем укоренившеюся болезнию, по которой всегда в отлучках от школы |
Продолжение табл. 1
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Чьих отцов дети |
Возраст |
Начало учебы |
Оценка поведения. Причина отчисления |
|
Школы пиитики |
|||||
|
6 |
Иванов Дмитрий |
Пречистенского сорока ц. Бориса и Глеба, что на Поварской, диакона Ивана Петрова |
19 |
1761 |
За двулетним побегом от школы |
|
7 |
Смирнов Иван |
Пречистенского сорока ц. Благовещения Богородицы, что на Бережках, дьячка Козмы Дмитриева |
18 |
1763 |
Состояния б/п. За безпрестанными отлучками и нерадением к наукам |
|
8 |
Теплов Алексей |
Пречистенского сорока ц. Всемилостивого Спаса, зовомой Пятницы божедомской, диакона Ивана Леонтьева |
18 |
1762 |
Состояния б/п. За двулетним нехождением в школу |
|
9 |
Синицын Петр |
Пречистенского сорока ц. Рождества Христова, что на Поварской, умершего свящ. Силы Федорова |
19 |
1760 |
Развращенных нравов. За всегдашними долговременными отлучками от школы |
|
10 |
Левицкий Александр |
Ц. Луки Евангелиста, что на Знаменке, свящ. Евфимия Евдокимова |
22 |
1762 |
Состояния б/п. За непонятием и болезнию |
|
11 |
Румянцев Дмитрий |
Замоскворецкого сорока ц. Преображения Господня, что на Бол-вановке, викарного свящ. Петра Васильева |
20 |
1764 |
Состояния б/п. За всегдашними отлучками от школы по болезни |
|
12 |
Карташев Гаврила |
Синодального дому поддьяка Ивана Михайлова |
19 |
1762 |
Состояния б/п. За непонятием и за двулетним нехождением |
|
13 |
Стефанов Петр |
Ивановского сорока ц. Введения Пресвятой Богородицы, что в Барашах, викарного свящ. Стефана Иларионова |
17 |
1762 |
Состояния б/п. За болезнию, препядствующею продолжать учение |
|
Школы синтаксимы |
|||||
|
14 |
Левицкий Андрей |
Московского Покровского собора, что на Рву, свящ. Ивана Иванова |
17 |
1764 |
Состояния б/п. За крайним нерадением и частыми отлучками от учения |
|
15 |
Кахановский Андрей |
Никитского сорока ц. Николая чудотворца умершего свящ. Алексея Федорова |
19 |
1764 |
Состояния б/п. За крайнею леностию и отлучками от школы |
|
16 |
Соловьев Андрей |
Китайского сорока ц. Иоанна Предтечи, что у Варварских ворот, свящ. Стефана Иванова |
18 |
1764 |
За частым нехождением в школу |
|
17 |
Измайлов Гаврила |
Московского уезда Радонежской десятины с. Измайлова ц. Покрова Богородицы умершего свящ. Василья Иванова |
17 |
1760 |
Состояния б/п. За непонятием и всегдашними отлучками за болезнию |
|
18 |
Васильев Илья |
Московского уезда Селецкой десятины с. Драчева ц. Трех Святителей пономаря Василья Алексеева |
20 |
1762 |
За крайним непонятием и долговременным нехождением в школу |
|
19 |
Ключарев Логин |
Китайского сорока Покровского собора придела Всех Святых бывшего свящ. Андриана Иванова |
17 |
1761 |
Состояния б/п. За крайним нерадением о учении |
|
20 |
Петров Максим |
Ружной ц. Риз положения Богородицы, что во Дворце, пономаря Петра Федорова |
20 |
1761 |
За непонятием и за частыми продолжительными отлучками от школы |
|
21 |
Афанасьев Михайло |
Московского Никитского м-ря дьячка Афанасья Семенова |
17 |
1765 |
Состояния б/п. За слабым понятием и частыми от школы отлучками за болезнию |
Продолжение табл. 1
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Чьих отцов дети |
Возраст |
Начало учебы |
Оценка поведения. Причина отчисления |
|
22 |
Цветков Петр |
Московского Страстного м-ря сторожа Федора Борисова |
21 |
1764 |
Состояния б/п. За урослыми летами и за бо-лезнию |
|
23 |
Алексиев Петр |
Пехрянской десятины ц. Успения Пресвятой Богородицы свящ. Алексея Никифорова |
19 |
1762 |
Состояния б/п. За непонятием и частыми отлучками от школы |
|
24 |
Аничкин Петр |
Ивановского сорока ц. Никиты мученика, что в Таганке, умершего дьячка Василья Васильева |
16 |
1762 |
Состояния б/п. За частыми отлучками и нерадением о науках |
|
25 |
Бычкарев Стефан |
Сретенского сорока ц. Иоанна Воина, что на старом убогом дому, умершего диакона Алексея Васильева |
18 |
1763 |
Состояния б/п. За частыми побегами от школы |
|
26 |
Зарин Тихон |
Звенигородского у. ц. Николая чудотворца с. Никольского пономаря Василья Максимова |
18 |
1760 |
За долговременным нехож-дением |
|
Школы грамматики |
|||||
|
27 |
Васильев Иван |
Сретенского сорока ц. Покрова Пресвятой Богородицы, что в с. Покровском, умершего диакона Василья Иванова |
17 |
1761 |
Худого состояния и развращенных нравов. За всегдашними побегами и развращенными нравами |
|
28 |
Соколов Иван |
Пречистенского сорока ц. Афанасия и Кирилла, что на Сивцове Вражке, диакона Федора Васильева |
17 |
1764 |
За непонятием и частым не-хождением |
|
29 |
Грязев Петр |
Сретенского сорока ц. Живоначальной Троицы, что на Грязях, умершего диакона Александра Стефанова |
19 |
1763 |
Состояния б/п. За двулетним нехождением в школу по болезни |
|
30 |
Орлов Корнила |
Никитского сорока ц. Рождества Пресвятой Богородицы сторожа Михея Естифеева |
18 |
1768 |
Худого состояния и развращенных нравов. За частым продолжительным нехождением и развращенными нравами |
|
31 |
Бычкарев Василий |
Сретенского сорока ц. Иоанна Воина, что на убогом дому, умершего диакона Алексея Васильева |
15 |
1763 |
Состояния б/п. За непонятием и частыми от школы отлучками |
|
32 |
Сахаров Петр |
Пречистенского сорока ц. Николая чудотворца, что на курьих ножках, дьячка Стефана Федорова |
14 |
1764 |
Состояния б/п. За крайне слабым понятием |
|
33 |
Кашинцев Павел |
Никитского сорока ц. священномученика Ермолая дьячка Матфея Петрова |
13 |
1766 |
Состояния средственного. За частыми отлучками от школы |
|
34 |
Крылов Иван |
Сретенского сорока ц. Иоанна Богослова придельного свящ. Гаврилы Федорова |
16 |
1764 |
Худого состояния и развращенных нравов. За продолжительными побегами и развращенными нравами |
|
35 |
Соколов Гаврила |
Замоскворецкого сорока ц. Покрова Пресвятой Богородицы, что на Ордынке, умершего пономаря Петра Семенова |
18 |
1764 |
Состояния б/п. За крайним непонятием |
|
36 |
Петров Иван Большой |
Китайского сорока ц. Иоанна Богослова, что под вязом, свящ. Петра Семенова |
19 |
1764 |
За крайним непонятием и частыми отлучками от школы |
Окончание табл. 1
|
№ п/п |
Фамилия, имя |
Чьих отцов дети |
Возраст |
Начало учебы |
Оценка поведения. Причина отчисления |
|
37 |
Кутилин Петр |
Замоскворецкого сорока ц. Иоанна Воина, что в Малых Лужниках, свящ. Алексея Ефимова |
17 |
1765 |
Состояния б/п. За нехождением продолжительным в школу, якобы по причине глазной болезни |
|
Школы аналогии |
|||||
|
38 |
Сергиев Василий |
Селецкой десятины с. Троицкого Селец ц. Живоначальной Троицы бывшего дьячка Григорья Афанасьева |
15 |
1765 |
За непонятием и побегами |
|
39 |
Власов Митрофан |
Ивановского сорока ц. Успения Пресвятой Богородицы, что в Гончарах, дьячка Павла Петрова |
14 |
1762 |
За непонятием и весьма частыми продолжительными отлучками |
|
40 |
Чебышев Василий |
Успенского собора умершего сторожа Ивана Павлова |
16 |
1763 |
За непонятием и частыми побегами |
|
41 |
Пылаев Алексей |
Никитского сорока ц. Знамения Пресвятой Богородицы свящ. Михайлы Онофриева |
17 |
1766 |
За двулетним побегом от школы |
|
42 |
Онтонов Тимофей |
Радонежской десятины с. Измайлова ц. Покрова Пресвятой Богородицы, что на острову, умершего свящ. Онтона Сергеева |
17 |
1768 |
За всегдашними побегами |
|
43 |
Андреев Василий |
Загородской десятины с. Троицкого Голенища свящ. Андрея Леонтьева |
17 |
1767 |
За непонятием и частыми побегами |
|
44 |
Величкин Никита |
Пречистенского сорока ц. Рождества Пресвятой Богородицы, что за Арбатскими вороты дьячка Петра Семенова |
17 |
1764 |
Состояния б/п. За всегдашним нехождением в школу |
|
45 |
Афанасьев Сергей |
Сретенского сорока ц. Покрова Пресвятой Богородицы, что в Покровском, викарного свящ. Афанасья Егорова |
14 |
1768 |
Состояния б/п. За крайним непонятием |
|
46 |
Кутилин Илья |
Замоскворецкого сорока ц. Иоанна Воина умершего викарного свящ. Алексея Ефремова |
14 |
1768 |
Состояния б/п. За всегдашними побегами |
Примечание. Таблица составлена по материалам «Реэстра Московской славеногреколатинской Академии ученикам, за разными причинами впредь к учению не надежным» (РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1, ч. 17 (1770 г.). Д. 219. Л. 2—8).
Просмотр содержания третьей колонки табл. 1 убеждает, что все отчисленные студенты принадлежали к духовному сословию, — наглядное подтверждение того, что славяно-греко-латинская академия стала практически чисто духовным учебным заведением до того, как ее в 1775 г. возглавил архиепископ Платон (Левшин). Почти все, за исключением пономарского сына из Боровского уезда (№ 4), были детьми священно- и церковнослужителей из Москвы и Подмосковья.
Количество отчисляемых по отдельным школам выглядит следующим образом: из риторики — 5, из пиитики — 8, из синтаксимы — 13, из грамматики — 11, из аналогии — 9 учащихся. Таким образом, от старшего класса (риторика) к среднему (синтаксима) количество отчисляемых учеников возрастает, а затем от среднего к младшему (аналогия) снижается.
Средний возраст отчисляемых по всем пяти школам составлял 18 лет, но для каждой школы в отдельности он разнится, с заметным понижением от старших классов к младшим: в риторике — 21,5 года, в пиитике — 19, в синтаксиме — 18 лет, в грамматике — 16,5 и в аналогии — 15,5 года.
Самому старшему из отчисляемых студентов в 1770 г., Алексею Назарову из школы риторики, было 23 года, десять из них он провел в академии, самому младшему, Павлу Кашинцеву из школы грамматики — 13 лет, проучился он всего четыре года. Возрастной диапазон отчисляемых по отдельным школам был таким: риторики — от 21 до 23 лет, пиитики — от 17 до 22 лет, синтаксимы — от 16 до 21 года, грамматики — от 13 до 19 лет, аналогии — от 14 до 17 лет.
Средняя продолжительность обучения в академии на момент отчисления составляла 6—7 лет, по школам также прослеживается неуклонное снижение возраста отчисляемых от старших к младшим классам (в скобках приводится средний год поступления в академию): риторика — 8,5 года
(1761/2), пиитика — 8 лет (1762), синтаксима — 7,5 года (1762/3), грамматика — 6 лет (1764), аналогия — 4,5 года (1765/6). Рекордсменами по срокам обучения были студенты школы риторики Иван Быков и Василий Снигиревский, обучавшиеся в академии по 11 лет.
Приведенные в табл. 1 данные позволяют судить о том, как долго можно было обучаться в одном классе, не переходя на следующую, более высокую ступень. В школе аналогии, низшей из пяти школ, подлежавшие отчислению студенты успели проучиться от двух до восьми (!) лет: один из них, 14-летний Митрофан Власов, был принят в академию в возрасте 6 лет и отчислялся «за непонятием и весьма частыми продолжительными отлучками»; другой, 16-летний Василий Чебышев, проучился семь лет и был исключен «за непонятием и частыми побегами». Остается удивляться долготерпению руководства академии, проявленному в отношении учеников, не просто страдавших безнадежным «не-понятием», но и упорно игнорировавших занятия.
Всего на одну ступень, до школы грамматики поднялся за девять лет 17-летний Иван Васильев, отличавшийся «всегдашними побегами и развращенными нравами»; семилетнее обучение его однокашника, 15-летнего Василия Бычкарева, было прервано «за непонятием и частыми от школы отлучками»; проучившемуся шесть лет 14-летнему студенту той же школы Петру Сахарову было отказано в продолжении образования «за крайне слабым понятием».
Подлежавшие отчислению студенты поступали в академию в возрасте от шести до девятнадцати лет. Расклад по возрастам выглядит следующим образом: в 6 и 7 лет поступило по одному человеку, в 8—10 лет — от 4 до 6 чел., в 11 и 12 лет — по 8 чел., в 13—14 лет — от 3 до 5 чел., в 15—16 лет — 1—2 чел., в 19 лет — 1 чел. Для наглядности представим эти данные в табл. 2.
Таблица 2
Возраст поступления в Академию студентов, отчисленных в 1770 г.
|
Возраст поступления |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Число студентов |
1 |
1 |
6 |
4 |
6 |
8 |
8 |
5 |
3 |
2 |
1 |
— |
— |
1 |
Цифры табл. 2 свидетельствуют о том, что от 6 до 11 лет наблюдается рост количества зачисленных в академию, наибольшее число поступивших приходится на возраст 11—12 лет, а затем, начиная с 13 лет, количество начинавших обучение в академии неуклонно снижается.
Из 46 студентов, определенных к отчислению, в особый реестр были зачислены 17 таких, которые «как прежде, так и ныне не являются в Академию» (2, л. 8 об.): из риторики — трое (Алексей Назаров, Петр Юстинов и Михайло Левитов), из пиитики — один (Иван Смирнов), из синтаксимы — трое (Андрей Левицкий, Логин Ключарев и Тихон Зарин), из грамматики — шестеро (Иван Васильев, Иван Соколов, Павел Кашинцев, Иван Крылов, Иван Петров «Большой» и Петр Кутилин), из аналогии — четверо (Василий Чебышев, Алексей Пылаев, Никита Ве-личкин, Илья Кутилин).
Помимо упоминавшегося ранее Петра Грязева, об отчислении из академии по состоянию здоровья просил еще один ученик школы грамматики, Петр Кутилин, о чем в ведомости 24 сентября 1770 г. сделана соответствующая отметка: «Оной Кутилин по прошению ево и по определению канторы Святейшего Синода для излечения глазной ево болезни отдан на расписку впредь с поставкою по освобождении от болезни к разсмотрению июля 2-го» (2, л. 13).
В той же ведомости имеются примечания, относящиеся к учащимся школы риторики Ивану Быкову и Алексею Назарову. О первом лаконично замечено: «Оной Быков отослан в Крутицкую консис[торию]»; второй студент удостоился более пространной характеристики: «Оной Назаров июля 23-го сего года прислан был из полиции якобы в бою им караульного, которой по допросу в канторе не признался и отдан отцу ево Сергиевской церкви, что в Пушкарях, священнику Алексею Степанову для представления во Академию августа 5-го дня» (2, л. 11).
Итог рассмотрения дела об отчислении 46 студентов славяно-греко-латинской академии был подведен Московской синодальной конторой 4 октября 1770 г. Указав причины отчисления 42 студентов, относившихся к ведомству Московской епархии («за непонятием и болезньми одинатцать, за непонятием, нехождением семь, за нерадением и нехождением девять, за побегом, худым состоянием и развращенным нравом пятнатцать»), затем перечислив троих, проходивших по ведомству Синода («первой Большого Успенского собора умершего пономаря Ивана Алексеева сын Василей, состояния безподозрительного, за непонятием и болезнию, второй синодального подьяка Ивана Михайлова сын Гаврила за непонятием, двулетним нехождением, а третей Успенского собора умершего сторожа Ивана Павлова сын Василей за непонятием и частыми побегами»), руководство конторы во главе с архиепископом Московским Амвросием1 вынесло такое определение:
«Из вышеписанных учеников, состоящих в ведомстве Московской епархии сорока двух человек отослать при указе в Московскую духовную консисторию, которой с докладу синодального члена преосвященного Амвросия, архиепископа Московского и Калужского, учинить об них надлежащее в силу объявленного из Святейшего Синода указа разсмотрение и решение, а чьих отцов оные ученики дети и коликих кто лет, и за чем к учению не способны, о том выписав из означенного поданного от ректора архимандрита Антония с префектом реэстра, приложить при оном указе ведомость. Что ж касается до означенных н[ах]одящихся в ведомстве Священного Синода учеников трех человек, то об них учиня подлежащую справку, доложить впредь» (2, л. 17 об.).
После этого всем отчисляемым студентам, присланным в синодальную контору из академии (таковых в наличии оказалось 39 человек), было предложено расписаться «в том, чтоб они в Московскую духовную консисторию явились сего октября 5-го дня», под угрозой «за неявку неизбежного по указом штрафа неотменно». Далее следуют автографы бывших студентов одного содержания: «Во исполнении сего подписуюсь» (2, л. 22 — 22 об.; далее следовали имя и фамилия). В деле Московской синодальной конторы об отчислении студентов академии имеется также расписка такого содержания: «Присланной из Московской Святейшего Синода канторы обучавшейся в Академии ученик Быков в Крутицкой духовной консистории принят сего октября 17-го (11-го? — А. М. ) дня» (2, л. 26).
Прежде чем расстаться со студентом Василием Чебышевым, служители Московской синодальной конторы решили разобраться с происхождением его фамилии. В журнале конторы 3 ноября 1770 г. сделана была следующая запись: «Разсуждено у присланного Московской Академии ректора с прот-чими, к учению не способными учениками, школы аналогии ученика Московского Успенского собора сторожа Ивана Павлова сына его Василья Чебышева взять известие, почему он называется Чебышевым, и доложить» (2, л. 39).
Два дня спустя в журнале появилась новая запись:
«1770-го года ноября 5-го дня в канторе Святейшего Синода присланной из Московской Академии с непонятными учениками школы аналогии ученик Василий Чебышев сказал:
Называется он, Василий, по прозванию Чебышевым, со определения ево во оную Академию, а кем оное ему дано, от учителя или от учеников, за многопрошедшим временем и за малолетством ево, понеже он тогда имел себе от роду десять лет, не припомнит.
К сей скаске Московской академии ученик Василей Чебышев руку приложил» (2, л. 40).
По этому поводу протоколист конторы Тимофей Миславский заметил: «По скаске Московской Академии ученика Василья Чебышева, что он от кого себе прозвание себе (так! — А. М. ) Чебышевым получил, за многопрошедшим временем и за малолетством ево не припомнит. Приказали оную скаску привнесть в сочиняющейся об нем, Чебышеве, протокол» (2, л. 41).
Наконец, 15 ноября 1770 г. Московская синодальная контора постановила: «А понеже из вы-шепрописанного обстоятельства значит, что оного Василья отец Иван Павлов написан в подушном окладе с протчими наряду дворцовыми крестьянами, того ради приказали помянутого Василья отослать для разсмотрения дворцовой канцелярии в кантору при указе» (2, л. 43).
Двое из отчисленных студентов обратились в Московскую синодальную контору с прошениями относительно своей дальнейшей судьбы. Прошение Гаврила Карташева, поданное 20 октября 1770 г., было оформлено как челобитье на высочайшее имя, хотя подлежало рассмотрению в синодальной конторе:
«Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императрица Екатерина Алексеевна, самодержица Всероссийская, государыня всеми-лостивейшая.
Бьет челом Московской Академии школы пиитики студент Гаврил Иванов сын Карташев, а о чем, тому следуют пункты.
Дед мой, именованного, Михаило Леонтьев находился при Синодалном доме певчим, а отец мой и поныне синодалным же подьяком находится, Иван Михайлов, при котором будучи я, именованный, российской грамоте обучен, и потом по указу Святейшего Правительствующего Синода канторы в 1760-м году отослан я, именованный, для обучения греколатинскому языку в Академию, где и находился по нынешней 770-й год. А ныне я ис той Академии за непонятием с протчими прислан во оную Святейшего Правительствующего Синода кантору, которое непонятие мне по болшей части чинилось от гловной моей болезни, точию еще ни х каким делам не определен. А ныне я, именованный, желаю быть при делах Вашего императорского величества в ведомстве Святейшего Правительствующего Синода канторы, в московской типографии наборщиком.
И дабы высочайшим Вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение Святейшего Правительствующего Синода в кантору принять и меня, именованного, в вышеозначенную Московскую типографию определить наборщиком.
Всемилостивейшая государыня, прошу Вашего императорского величества о сем моем челобитье решение учинить.
Октября ___ дня 1770 года к поданию надлежит Святейшего Правительствующего Синода в канторе.
Челобитную писал я ж, Карташев, и руку приложил» (2, л. 29 — 29 об.).
27 октября Московская синодальная контора приняла по этому вопросу такое решение: «О определении оного студента Гаврила Карташева в Московскую типографию наборщиком подлежащее расмотрение и решение принять Московской типографской канторе, и о том во оную послать указ» (2, л. 30 об.).
Исключенный из школы риторики Василий Снигиревский в своем прошении упирал на то, что ему, помимо прочего, приходится заботиться о пропитании матери и сестры:
«Во оной Московской Академии находился я, именованны[й], с прошлого 1759 года во обучении в разных школах и дошел до оной школы риторики, и то учение свое препровождал с крайним рачением, но по имеющейся у меня внутренной болезни (о которой как и в ведомости, присланной в кантору Святейшего Синода, с протчими впредь к учению не надежными учениками показано), более к вышним наукам достичь не мог. За чем и к разсмотрению в кантору Святейшего Синода прислан. Отец же мой Иван Алексеев находился в Суждалской епархии Зарецкой десятины церкви Покрова Пресвятой
Богородицы, что в селе Коварчине, действительным дьячком, которой по увольнению от Суждалской епархии определен был канторою Святейшего Синода в прошлом 1752-м году Большого Успенского собора в придел великомученика Димитрия Селунского действительным пономарем, которой во оном будучи, нынешнего года волею Божиею умре, а я, именованный, после отца своего остался ныне в сиротстве и в крайнем убожестве. При том же имеется ныне при мне мать при старости и сестра девица родные, которые должны пропитание иметь от меня. Родственников же у меня, именованного, как в Москве и особливо в Суждале никого не имеется.
Того ради кантору Святейшего Синода покорно прошу для показанных резонов и по крайнему моему убожеству из единого милосердия, а особливо для пропитания матери и сестры моих приказать определить в Московскую типографию в писцы или к каковому званию могу оказаться способным. И о сем учинить милостивое решение. Октября ___ дня 1770 году прошение писал я ж, Василей Снигиревски[й], и руку приложил» (2, л. 31 — 31 об.)
Решение конторы по этому вопросу гласило: «Об оном студенте Василье Снигиревском надлежащее разсмотрение и определение учинить с докладу и приказания синодального члена преосвященного Амвросия, архиепископа Московского, Московской духовной консистории, для чего и отослать ево, Снигиревского, во оную консисторию при указе» (2, л. 35 об.)
Несмотря на то, что отчисление из академии отнимало у молодых людей, которые «побегами, худыми поступками и развратным нравом себя опорочили», «надежду чина священнического неотменно», они, как и исключенные по состоянию здоровья, сохраняли принадлежность к духовному сословию, но должны были прилагать больше усилий для обеспечения своего будущего.
Список литературы "Непонятных учеников... долговремянно в школах не держать...": дело об отчислении учащихся Московской славяногреко-латинской академии (1770 г.)
- РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1, ч. 17 (1770 г.). Д. 9.
- РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1, ч. 17 (1770 г.). Д. 219.
- Рождественский, С. В. Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII-XIX веках / С. В. Рождественский. - СПб., 1912. - Т. 1.
- Смирнов С. История Московской славяно-греко-латинской академии / С. Смирнов. - М., 1855.