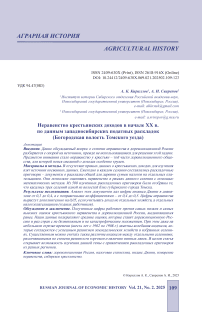Неравенство крестьянских доходов в начале XX в. по данным западносибирских податных раскладок (Богородская волость Томского уезда)
Автор: Кириллов А.К., Свирепов А.И.
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Аграрная история
Статья в выпуске: 2 (69) т.21, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Давно обсуждаемый вопрос о степени неравенства в дореволюционной России разбирается с опорой на источники, прежде не использовавшиеся для решения этой задачи. Предметом внимания стало неравенство у крестьян - той части дореволюционного общества, для которой поиск сведений о доходах особенно труден.
Дореволюционная Россия, налоговая статистика, индекс джини, измерение неравенства, сибирское крестьянство
Короткий адрес: https://sciup.org/147251552
IDR: 147251552 | УДК: 94.47(083) | DOI: 10.24412/2409-630X.069.021.202502.109-123
Текст научной статьи Неравенство крестьянских доходов в начале XX в. по данным западносибирских податных раскладок (Богородская волость Томского уезда)
Материальное неравенство в дореволюционной России – тема отнюдь не новая. Школьники поздней советской эпохи твердо знали, что царское самодержавие было свергнуто рабочими и крестьянами, удрученными тяготами убогой жизни на фоне роскоши дворянства и буржуазии. В постсоветское время одной из составляющих новой парадигмы Б. Н. Миронова стало представление о том, что расслоение в дореволюционной России было не более или даже менее значительным, чем в западных странах (которые, однако, таких, как у нас, революций избежали). На этом фоне попытка искать новые данные для оценки дореволюционного неравенства может выглядеть как консервативное стремление вернуться к прошлому. Но речь не об этом. Задача, которую мы ставим перед собой, – найти новые данные для тех оценок, которые пока вынужденно опираются на весьма приблизительные показатели.
Дело в том, что самый желанный источник для расчета коэффициентов неравенства, столь важных для экономических историков, – это данные подоходного налога. Как указывают А. Аткинсон, Т. Пикетти и Э. Саес, в начале XXI в. внимание историков к налоговой статистике как материалу для изучения доходов богатой части общества явно выросло [8, p. 3]. Исследователи американского неравенства П. Линдерт и Дж. Вильямсон высоко ценят материалы подоходного налога и сетуют на их отсутствие до 1913 г., когда подоходного налога в США не было [12, p. 2].
Между тем в России подоходного налога не было до самого 1916 г., и даже после появления он был адресован в основном горожанам. К услугам исследователей неравенства крестьян – лишь те данные, на которых так долго изучалось крестьянское расслоение: всеобщая перепись 1897 г., отраслевые и местные переписи и выборочные статистические обследования. Д. Филд, еще в 1980-е гг. пытавшийся использовать эти данные для расчета индекса Джини [5], столкнулся с тем, что по отдель- ным признакам (количество земли, скота и т. д.) индексы посчитать можно, но неясно, как их сводить в единый показатель.
Материалы и методы
Раскладка налогов и раскладочные приговоры. Именно эту задачу решают раскладочные приговоры – решения сельских сходов о раскладке, т. е. распределении между отдельными плательщиками налогов, причитающихся с целого сельского общества в центральный и местные бюджеты.
Удивительно, но даже в эпоху подушной подати знаменитая «душа мужского пола» выступала лишь условной единицей для расчета суммы налога, которую должно уплатить все сельское общество целиком. Эта сумма доводилась чиновниками до сведения общества, а далее крестьяне сами на сходе решали, с кого сколько взять.
Дело в том, что душа мужского пола, прочно утвердившаяся в крестьянских налогах с петровских времен, служила лишь расчетной единицей для определения чиновниками платежа, взимаемого с целого сельского общества. Ближайший к крестьянам финансовый орган государства – казенная палата той или иной губернии – различала своим недреманным оком не отдельных крестьян, а лишь отдельные селения. Распределение порученной сельскому обществу суммы между отдельными крестьянами оставалось на усмотрение сельского схода. Думали ли участники схода, распределяя налог, о справедливости – неизвестно, зато хорошо известно, что у богатых крестьян был стимул не перегружать бедных чрезмерно. Стимул этот – круговая порука: если бедные не заплатят разложенной на них части, доплачивать все равно придется богатым, да еще, не ровен час, и воинскую команду для взыскания недоимок пришлют. Уж лучше сразу разделить не по количеству душ мужского пола, а сообразно действительной платежной силе.
С конца XIX в., в свете планируемой, а затем и произошедшей отмены круговой поруки, раскладка податей по имущественным основаниям стала приобретать еще большее значение. Начиная с 1904 г.
(в Сибири – с 1906 г.) положение с крестьянскими налогами оказалось совсем диковинным: коллективная ответственность за уплату сменилась единоличной, но раскладкой налогов по-прежнему занимался сельский сход. Конечно, у чиновников возникало опасение, как бы крестьяне не разложили львиную долю налогов на убогих, с которых нечего взять даже продажей имущества, и тем самым не оставили бы казну без денег.
Защиту от такой угрозы создало правило о необходимости в раскладочном приговоре заявить основания раскладки (какие единицы обложения используются, сколько рублей и копеек взимается за каждую единицу) и приложить перечень плательщиков (указав, сколько и каких именно единиц обложения есть у каждого). Основания раскладки в наших приговорах, как правило, немногочисленны, и они хорошо известны историкам: лошади, коровы, десятины пашни (изредка – овцы, свиньи, ульи, участие в маслоделии). Все это можно найти и в обследованиях статистиков. Но исключительная ценность раскладочных перечней (приложенных к раскладочным приговорам) – в том, что весомость каждой статьи оценена крестьянами с точностью до копейки. Таким образом, раскладочные перечни содержат косвенные данные о совокупном доходе крестьян.
Данные эти – не только косвенные, но и относительные. Они показывают не абсолютную состоятельность крестьян, но относительную зажиточность в сравнении с другими участниками данного перечня. Вот почему использование раскладочных приговоров как источника побуждает изучать неравенство в рамках отдельных селений. Тем самым мы поддерживаем замысел Т. Деннисон и С. Нафцигера, которые попытались оценить крестьянское неравенство «на микроуровне» – по отдельным селениям. Авторы были достаточно осторожны и при подведении итогов своей статьи поставили главной своей задачей скорее побуждение к обсуждению на основе новых источников, чем формулировку окончательных выводов. Тем не менее они определенно заявили, что обнаружили в российской деревне XIX в. «явное неравенство – даже в пределах небольшой площади» [9].
Ежегодно в России начала XX в. составлялись десятки тысяч раскладочных приговоров. Историк, работающий с массовыми документами, обычно сталкивается с проблемой методов отбора небольшой их части, подлежащей изучению. В данном случае все иначе. Как правило, раскладочные приговоры уничтожались после выполнения плательщиками податных обязательств. Фонды волостных правлений (по крайней мере, в западносибирских архивах) содержат совершенно незначительные остатки этих документов. Спасает то, что приговоры обязательно посылались на проверку финансовым чиновникам и некоторые дела, сплошь заполненные раскладочными приговорами, сохранились в фондах податных инспекторов и казенных палат. Даже здесь, у чиновников, такие подборки сохранились лишь в виде исключения: за отдельные годы, по некоторым волостям (как правило, с пропусками селений или даже выборочно). Многие из сохранившихся приговоров лишены раскладочных перечней, что делает их неподходящими для наших задач. Часть приговоров с перечнями содержит неполную раскладку – только местных сборов или только государственных (как правило, раскладка оформлялась двумя приговорами, причем местные и государственные налоги раскладывались по разным основаниям). Это не позволяет получить правильную картину раскладки, а значит, использовать такие перечни невозможно. Большинство оставшихся приговоров сопровождается перечнями менее чем на 100 чел., что делает их непригодными для статистического анализа. Все эти ограничения резко сокращают число приговоров, подлежащих использованию.
Коллекцию раскладочных приговоров, хранящуюся в Государственном архиве Томской области, можно назвать богатой: около 2 000 экземпляров с 1899 по 1908 г. (почти все – в фонде податного инспектора 2-го участка Томского уезда). Обработав первые 500 приговоров (по алфавитному перечню волостей), мы обнаружили – с учетом всех перечисленных ограничений – 46 полных раскладок, пригодных для статистического анализа. Из всех селений, представленных в этом наборе, по двенадцати есть приговоры за разные годы, что представляет первоочередной интерес по сравнению с изолированными приговорами. И только для четырех селений есть приговоры, покрывающие три различных года, с шестилетним разрывом между крайними точками. Все эти селения относятся к Богородской волости; наличные годы – это 1902, 1907 и 1908. Одно из них – Керевское – мы исключим из рассмотрения, так как раскладочные перечни за 1907 г. в нем составлены иначе, чем в других селениях, и требуют особых методов обработки. Для рассмотрения остаются селения Баткат, Каргалинское и Десятовское. Расположенные в пяти верстах друг от друга Баткат и Каргалинское принадлежали к одному сельскому обществу, но на деле жили каждое своей жизнью, в официально публикуемых перечнях населенных мест учитывались порознь и раскладки делали самостоятельно.
Богородская волость относилась к обширному Томскому уезду, который вместе со всей губернией быстро развивался экономически: с 1880-х гг. – за счет переселения крестьян, частью которого стало знаменитое столыпинское переселение; с середины 1890-х гг. – за счет Транссибирской железной дороги, открывшей возможность вывозить хлеб и масло из Сибири на мировой рынок. Крестьяне активно участвовали в этой торговле, покупали современную технику; сибирский хлеб шел на запад. Невзирая на челябинский тарифный перелом, Союз сибирских маслодельных артелей имел представительство даже в Лондоне.
Богородская волость располагалась недалеко от Томска – губернского города, университетской столицы Сибири и крупного торгового центра, отдельной железнодорожной веткой подключенного к Транссибу. Если верить спискам населенных мест, волостной центр от Томска отделяло 55 верст; представленные у нас селения расположены в 75–80 верстах от Томска. Судя по описаниям А. А. Кауфмана, изучавшего северную часть Томского уезда, 20-верстное удаление от города несомненно давало возможность крестьянам тесно включаться в его хозяйственную жизнь, что определяется скоростью передвижения конной повозки с грузом. Это достаточно далеко, чтобы жители волости были лишены возможности обслуживать горожан за счет коротких однодневных поездок в город и вынуждены были (в отличие от пригородных селений) заниматься хлебопашеством как основным видом деятельности. Но это и достаточно близко, чтобы крестьяне могли включаться в торговлю, связанную с Томском как потребителем и как транспортным пунктом. Итак, наши селения не принадлежали к медвежьим углам, завязшим в натуральном хозяйстве, а напротив, располагались в районе быстрого экономического развития, локомотивом которого было сельское хозяйство.
Богородские индексы в мировом контексте. Для измерения неравенства были использованы два инструмента. Децильный коэффициент показывает, во сколько раз доход наименее богатого человека из верхних 10 % общества превосходит доход наименее бедного из нижних 10 %. Этот коэффициент, получаемый в результате элементарного деления одного числа на другое, удобен для экономических историков тем, что его величину можно хотя бы примерно оценить даже в отсутствие подробных данных. Для данной статьи ценно, что именно этот показатель больше всего используется в текущих спорах о дореволюционном неравенстве, причем оценки расходятся от 4,2–10,7 [4, с. 605] до 21,25 [6]. За счет использования децильного коэффициента наши данные оказываются сопоставимы с данными ключевых участников обсуждения.
В свою очередь, индекс Джини, сводящий в единую цифру все десять рубежных показателей между децилями (10-процентными частями) выбранной совокупности, позволяет более точно измерить степень неравенства. П. Линдерт и С. Нафцигер используют коэффициент Джини наряду с децильным: в статье 2014 г. они оценивают неравенство среди крестьянских хозяйств в целом в 1904 г. цифрой в 0,36 [11, p. 787]. Индекс Джини имеет ограничения: авторы одного из европейских изданий о неравенстве указывают, что при одном и том же значении этого индекса может наблюдаться разная структура доходов – разный отрыв верхушки от всех прочих [10, p. 200–201]. Но децильный коэффициент в глазах тех же авторов еще менее ценен: они его даже не упоминают. Не упоминается децильный коэффициент среди измерителей неравенства и в самой свежей на сегодня научно-популярной книге исследователей-экономистов о неравенстве; авторы этой книги главным орудием измерения неравенства называют индекс Джини [14]. Даже Б. Н. Миронов, который главное внимание уделяет оценке децильного коэффициента, а индекс Джини в соответствующей главе «Благосостояния» приводит лишь однажды, именно этот ин- декс называет наиболее адекватным способом оценки неравенства [4, с. 597–598].
Результаты исследования
Кроме двух рассчитанных нами индексов, в табл. 1 указано и число плательщиков, прямо названное в документах. Изменения этого числа зависят от внутренних причин (взросление детей, утрата трудоспособности стариками, смертность) и внешних обстоятельств (приход переселенцев, отделение новых селений из состава старого). Эти причины и обстоятельства не поддаются точному учету, но могут влиять на изменение уровня неравенства: молодежь и переселенцы были менее зажиточны, чем взрослые старожилы. Поскольку число плательщиков растет незначительно, можно думать, что наши индексы свободны от влияния демографических факторов.
Значения децильного коэффициента у нас колеблются в диапазоне от 4,4 до 7,7: таким образом, они укладываются в нижнюю часть диапазона, который дает Б. Н. Миронов, и несомненно работают в пользу низкого уровня расслоения. Крайние значения
Таблица 1
Коэффициенты неравенства доходов налогоплательщиков в селениях
Богородской волости Томского уезда1 /
Table 1
Coefficients of the taxpayers’ income inequality in the villages of the Tomsk district Bogorodskoye county
|
Селение / Village |
Год / Year |
Число плательщиков / Number of taxpayers |
Децильный коэффициент / Decile ratio |
Индекс Джини / Gini coefficient |
|
Баткат / Batkat |
1902 |
145 |
7,71 |
0,404 |
|
1907 |
156 |
6,80 |
0,390 |
|
|
1908 |
160 |
6,88 |
0,387 |
|
|
Каргалинское / Kargalinskoye |
1902 |
135 |
6,07 |
0,352 |
|
1907 |
135 |
4,99 |
0,339 |
|
|
1908 |
144 |
6,06 |
0,371 |
|
|
Десятовское / Dessyatovskoye |
1902 |
117 |
7,12 |
0,389 |
|
1907 |
128 |
4,39 |
0,304 |
|
|
1908 |
127 |
4,80 |
0,327 |
1 Рассчитано по: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Ф-200. Оп. 1. Д. 125. Л. 38–43, 85–94 об.; Д. 183. Л. 135–139; 147–150 об.; 151–154 об., 194–210 об., 227–231; Д. 225. Л. 536–538 об., 539–545; 554–564 об. / Calculated from: State Archive of Tomsk Oblast (GATO). F. F-200. Inv. 1. F. 125. P. 38–43, 85–94 Inv.; F. 183. P. 135–139; 147–150 Inv., 151–154 Inv., 194–210 Inv., 227–231; F. 225. P. 536–538 Inv., 539–545; 554–564 Inv.
в табл. 1 – 0,30 и 0,40. Посмотрим, как это соотносится с цифрами от иных авторов.
Прежде всего сопоставим наши цифры с другими данными по России начала XX в. Участники интернационального европейского коллектива полагают, что на момент отмены крепостного права индекс Джини составлял 0,50 или немногим более, к 1890 г. снизился примерно до 0,40 и на этом уровне оставался до начала 1910-х гг. [10, p. 206]. Ставя задачей оценить уровень неравенства для всех частей света одновременно, они не вдаются в перечисление всех источников своих данных, но по скупым ссылкам можно понять, что для России XIX в. они отталкиваются от данных Б. Н. Миронова за первую декаду XX в., строя при этом собственную реконструкцию недостающих данных за вторую половину XIX в.
Однако Б. Н. Миронов дает гораздо меньшие индексы. Споря с тезисом о быстром увеличении неравенства в пореформенное время, он высказывает мысль, что «степень неравенства среди крестьянства на рубеже XIX–XX вв., если ее оценивать… индексом Джини по доходу на человека, была невысокой – 0,133–0,206, и к 1917 г. едва ли могла возрасти сколько-нибудь значительно» [4, с. 597–598]. Источник цифр в данном случае не показан, но цифра интересна нам как самая низкая оценка индекса Джини применительно к дореволюционному российскому крестьянству. Представления Б. Н. Миронова о пониженном уровне неравенства у крестьян сравнительно с горожанами поддерживает Л. И. Бородкин, который внимательно исследовал данные о заработной плате рабочих начала XX в. [1].
П. Линдерт и С. Нафцигер, в целом тоже считающие российскую деревню местом, не напряженным по части неравенства, дают гораздо более высокие показатели индекса Джини. В статье 2014 г. они оценивают неравенство среди крестьянских хозяйств в целом в 1904 г. цифрой в 0,36. Московскую и Петербургскую губернии называют единственными, где индекс Джини превышает 0,5, и связывают это с влиянием столичных городов. К районам высокого неравенства относят Прибалтику, Южную Украину и Причерноморье, самое низкое неравенство доходов обнаруживают на севере Европейской России и на Верхней Волге. Сопоставляя Россию с разными странами от 1860-х до 1920-х гг., авторы получают по этим странам диапазон от 0,239 до 0,570; в основном это Латинская Америка и Африка; если брать влиятельные страны, то: Англия и Уэльс в 1867 г. – 0,490; США в 2003 г. – 0,464 [11, p. 787–790].
Самые высокие показатели индекса Джини для российского крестьянства начала века приводит Д. Филд в статье 1989 г. Большинство его значений, подсчитанных в масштабе отдельных уездов, укладывается в диапазон от 0,4 до 0,7, и верхняя грань этого диапазона ставит Россию вровень с самыми отсталыми странами Африки. Но они оценивают не общее неравенство крестьян, а неравенство по отдельным хозяйственным показателям, из которых автор придает особенное значение распределению земли между крестьянами [5].
Продолжая тему сопоставлений между странами и эпохами, уже затронутую цифрами П. Линдерта и С. Нафцигера, обратимся к статье П. Линдерта в соавторстве с Б. Милановичем и Дж. Вильямсоном. Они приводят значения индекса Джини в основном для «доиндустриальных обществ», поэтому из западных стран есть только некоторые за XVIII – начало XIX в., а для конца XIX в. даны только страны Азии и Латинской Америки. Разброс велик: от 0,245 (Китай, 1880) до 0,635 (Новая Испания, около 1790). Причем у современных стран по данным на 2000 г. разброс оказывается немногим меньше: США – 0,399, Швеция – 0,273, Южная Африка – 0,573 [13, p. 263–264].
Как видно, даже для современных стран, насквозь пронизанных статистикой, разные авторы дают различные индексы. Чем дальше в глубь поколений, тем больше возрастает приблизительность цифр. Тем не менее вся совокупность оценок приводит к заключению, что наши показатели по Богородской волости соответствуют среднему диапазону мировых значений, отклоняясь от средней линии скорее в нижнюю сторону, чем в верхнюю.
Обсуждение
Перепады индексов и изменения в хозяйстве. Теперь можно приступить к самому интересному – разбору загадок таблицы коэффициентов. Здесь и неравномерное изменение индексов, и большое различие между значениями коэффициента в разных селениях, и резкое изменение коэффициента в одном селении за короткий срок.
В большинстве случаев индексы меняются синхронно: или оба снижаются, или оба растут, или оба остаются на месте. Но изменения не всегда одинаковы. В Каргалинском децильный индекс в начальной и в конечной точках одинаков: спад с 1902 по 1907 г. равен подъему с 1907 по 1908 г.; в то же время у индекса Джини подъем втрое больше спада. Другая форма того же явления: в Баткате между 1902 и 1907 гг. сокращение коэффициента Джини на 0,01 соответствует спаду децильного коэффициента на 0,9; в Десятов-ском в те же годы сокращение коэффициента Джини более чем на 0,08 (в 8 раз против Батката) дает спад децильного коэффициента лишь на 2,7 (в 3 раза). Даже если измерять колебания не в абсолютных цифрах, а в долях от исходного уровня, все равно два индекса показывают разную амплитуду колебаний: на 1/40 или на 1/10 в Баткате, на 1/5 или на 2/5 – в Каргалинском.
Таким образом, два наших инструмента дают разные значения при измерении одного и того же явления. По всей видимости, это связано с разным устройством двух инструментов. Поскольку индекс Джини опирается на десять цифр, а не на две, он меньше зависит от случайных колебаний. Проиллюстрировать влияние случайных колебаний можно каргалинскими показателями за 1907 и 1908 гг. Значение верхнего децильного рубежа по доходу остается на прежнем уровне (почти ровно 28), нижнего – снижается. Последнее обусловлено тем, что немного больше стало тех, кто вовсе не имеет годных работников, имея хотя бы коровенку, а то и десятинку (поскольку среди них есть женщины, ясно, что это группа стариков и вдов). В 1907 г. таких насчитывается 11 чел., в 1908 г. – 14. На фоне почти 150 плательщиков разница в 3 чел. незначительна; тем не менее именно от нее в данном случае зависит повышение децильного коэффициента на целую единицу. Вот почему в дальнейшем мы будем отдавать предпочтение индексу Джини.
Даже если брать во внимание только индекс Джини, бросается в глаза сокращение коэффициентов с 1902 по 1907 г. Попробуем объяснить его исходя из анализа внутренней структуры неравенства в каждом из селений. Для начала возьмем Каргалин-ское и Баткат, связанные в единое хозяйственное целое.
Возможная причина перепада между 1902 и 1907 гг. – почти полное исчезновение «чистых отходников». Отходники угадываются в 1902 г. по повышенному подушному платежу (4 руб. вместо 3 руб.), контрастирующему к тому же с угнетенным положением их хозяйства. Из 20 баткатских 4-рублевых плательщиков по этой статье ни один не имеет крепкого хозяйства, а 10 чел. не имеют никакого хозяйства вообще – ни пашни, ни лошади, ни коровы. В Каргалинском таких набирается 19 чел., и тоже ни один не имеет полноценного хозяйства. Крестьянин, живущий в деревне, – хотя бы даже неземледельческим промыслом – все-таки не может обойтись без коровы и лошади. Значит, наши «бесхозяйственные» 4-рублевые плательщики – это живущие в городе отходники, не имеющие семьи либо перевезшие ее в город («чистые отходники»); значит, и остальные 4-рублевые плательщики – тоже отходники, еще не ликвидировавшие хозяйство окончательно. Так вот, «чистых отходников» в Каргалинском в 1902 г. насчитывалось 12 чел., из них в 1907 г. осталось только двое. Хотя это не означало исчезновения бедняцких хозяйств вообще (еще 9 плательщиков, не относящихся к отходникам, были полностью лишены хозяйства), планка нижнего дециля от 1902 к 1907 г. поднялась с 4,0 до 5,6. Правда, в 1907 г. крупные хозяйства оказались крупнее, чем были в 1902 г.: их посев достигал 35 дес., а в 1902 г. – толь- ко 16. Доход верхнего децильного рубежа в 1907 г. был выше, чем в 1902 г.: 28,02 вместо 24,27. Тем не менее сокращение самой бедной группы дало уменьшение разрыва между богатыми и бедными.
В Баткате на данных 1902 и 1907 гг. мы видим ту же картину почти исчезающих «чистых отходников» (осталось 2 из 11 чел.). Хотя здесь, так же, как и в Карга-линском, и в 1907 г. сохранялась группа не имеющих хозяйства (9 чел.) или имеющих минимальное хозяйство (11 плательщиков), рубеж нижнего дециля и здесь тоже сдвинулся вверх – с 4,0 до 5,45. Схожими были процессы и в верхнем дециле баткатских плательщиков: граница дециля в Баткате с 1902 по 1907 г. повысилась с 30,855 до 37,72. У представителей верхнего дециля в 1902 г. имелось от 17 до 30 дес. посева, от 14 до 31 головы скота; в 1907 г. стало от 25 до 70 дес. посева, от 20 до 37 голов скота. Торговцы в верхнем дециле Батката присутствовали, но едва ли влияли на общую картину, так как даже богатейшие из них уступали по сумме платежей пятерке крупнейших скотоводов.
Можно заключить, что индекс неравенства несколько снизился по мере развития земледельческого хозяйства. Это довольно логичный результат для Западной Сибири, где вследствие Великого Сибирского переселения уже закончились времена захватного землепользования, но оставалось далеко до земельного голода. Здесь же уместно вспомнить суждение П. Линдерта и С. Нафцигера. Подытоживая разбор коэффициентов неравенства за начало XX в., они – по-видимому, в противоречии с собственными ожиданиями – заключают, что «в отношении неравенства доходов Россия выглядит довольно уравнительно в сравнении с другими странами, по которым есть данные», и причиной тому называют как раз обилие земли, позволяющее приемлемо жить крестьянам (это объясняет, почему российские революции начинались в городах) [11, p. 793].
Где больше неравенства: хозяйства или работники. Именно к соотношению городских и сельских индексов имеет отношение наше следующее соображение. Попутно оно ведет нас к знакомству с некоторыми технологическими подробностями обработки наших документов, не видными из табл. 1.
Особенность баткатской и каргалинской раскладки 1902 г. (они оформлены одним приговором) – несамостоятельные годные работники записываются отдельными строками. Поэтому, в отличие от обычных приговоров, даже по тем же селениям за другие годы, ни у кого не показано больше одного работника. Если рассчитывать доход на каждого из них, то данные за 1902 и 1907– 1908 гг. будут несопоставимы. Поэтому мы сделали пересчет: неотделенные сыновья и братья, не имеющие хозяйства, присоединялись к главам хозяйств.
Принимая такое решение, мы просто подверстывали меньшинство наших источников под стандарт большинства. Но в историографии вопрос о подушном или посемейном учете доходов удостоился отдельного – хотя и не обширного – обсуждения. П. Линдерт и С. Нафцигер настаивают на необходимости изучать не отдельных работников, а хозяйства в целом, полагая, что это логично для России и ссылаясь на опыт изучения других стран в те далекие времена, когда большинство людей жило в деревнях [11, p. 773].
Их поддерживает соображение Б. Н. Миронова о том, что данные о доходах крестьян занижаются при сравнении с рабочими (если учитывать рабочих подушно) из-за «семейной кооперации»: жизнь в одиночку в городе обходится дороже, чем в составе деревенской семьи [4, с. 599]. Практическое подтверждение этого общего соображения можно найти у А. Н. Энгельгардта, досаду которого вызывали разделы больших крестьянских хозяйств, неизбежно ведущие к обеднению разделившихся (потому что на то же количество людей теперь нужна не одна, а две или три стряпухи, две или три няньки, два или три хозяина, не могущих уйти далеко на заработки) [7].
Суждение о том, что учет годных работников по отдельности завышает их расходы и тем преувеличивает их бедность, кажется
Таблица 2
Коэффициенты неравенства доходов в селениях Баткат и Каргалинское в 1902 г. при расчете по домохозяевам и по годным работникам 2 /
Table 2
Coefficients of income inequality in the villages of Batkat and Kargalinskoye as accounted on the basis of husbandry owners and fit workers
|
Селение и метод расчета / Village and method of accounting |
Число учетных единиц / Number of units |
Децильный коэффициент / Decile ratio |
Индекс Джини / Gini coefficient |
|
Баткат, по домохозяевам / Batkat, on the basis of husbandry owners |
145 |
7,71 |
0,404 |
|
Баткат, по годным работникам / Batkat, on the basis of fit workers |
194 |
8,05 |
0,453 |
|
Каргалинское, по домохозяевам / Kargalinskoye, on the basis of husbandry owners |
135 |
6,07 |
0,352 |
|
Каргалинское, по годным работникам / Kargalinskoye, on the basis of fit workers |
161 |
7,67 |
0,389 |
2 Рассчитано по тем же источникам, что табл. 1 / Calculated from the same sources as Table 1
логичным. Это же соображение верно и для городских работников: муж, жена и неотделенный работающий сын, живущие одной семьей в городе, тоже тратят на хозяйство меньше, чем трое одиноких взрослых. Правда, авторы недавнего европейского издания ради сравнения показателей за разные эпохи даже современные данные пересчитывают в доход на домохозяйство [10, p. 200–201]. Тем не менее общепринятая норма – это персональный учет доходов горожан.
Для сопоставимости городских и сельских данных полезно понимать, насколько меняются наши индексы при переходе от подворного к единоличному учету доходов. Поэтому мы сделали отдельный расчет еще и для данных в том виде, как они даны в раскладочном перечне – по работникам от 17 до 60 лет (табл. 2).
Хотя нельзя сказать, что эти цифры меняют положение коренным образом (в отличие, например, от учета количества иждивенцев, увеличивающего децильный коэффициент троекратно [3]), все-таки изменение индекса Джини на 0,05 – это существенный рост. Он вполне логичен: если мы учитываем доходы неотделенных детей отдельно, то появляется большая группа крестьян с малым доходом, а доход верхней группы не сокращается зна- чительно. Но логичное не всегда подтверждается в действительности. В свете упоминавшихся суждений историков вывод из приведенных цифр кажется небесполезным: учет доходов по хозяйствам занижает расслоение по сравнению с учетом доходов по работникам. Если за неимением лучшего мы все-таки используем для крестьян данные по хозяйствам, надо помнить о необходимости поправки при сопоставлении этих цифр с городскими данными.
Междеревенские сопоставления. Материал предыдущего подпункта заставляет внимательнее присмотреться к нашим приговорам на предмет сопоставимости их данных. Мы обнаруживаем еще один параметр, способный исказить действительные соотношения. Речь идет об основаниях раскладки: какая часть налогов раскладывается на души годных работников, какая – на пашню, на лошадей и на коров. По существу, речь идет о формуле сведения отдельных признаков в интегральный показатель. Вследствие борьбы богатых и бедных на сходе эта формула менялась.
Если при неизменном уровне неравенства мы в разные годы используем разные формулы для его расчета, то получим иллюзию изменения неравенства. Чтобы снизить влияние
Таблица 3
Зависимость коэффициента неравенства от учета подушной составляющей податных раскладок в селениях Богородской волости 3 /
Table 3
Dependence of the inequality coefficient upon the personal component of tax repartitions in the Bogorodskoye county
|
Селение / Village |
Год / Year |
Индекс Джини / Gini coefficient |
|
|
по раскладочному перечню / according to the repartitional list |
без учета подушной составляющей / cleaned from the personal component |
||
|
Баткат / Batkat |
1907 |
0,390 |
0,504 |
|
1908 |
0,387 |
0,489 |
|
|
Каргалинское / Kargalinskoye |
1907 |
0,339 |
0,446 |
|
1908 |
0,371 |
0,494 |
|
|
Десятовское / Dessyatovskoye |
1902 |
0,389 |
0,406 |
|
1907 |
0,304 |
0,401 |
|
|
1908 |
0,327 |
0,388 |
|
3 Рассчитано по тем же источникам, что табл. 1 / Calculated from the same sources as Table 1
этих «шумов», мы сделали новый расчет индекса Джини, отбросив подушную составляющую, увеличение или уменьшение которой сильно влияет на значения коэффициента. Табл. 3 сопоставляет результаты изначального расчета по раскладочным перечням, уже виденные нами в табл. 1, и цифры, очищенные от подушной составляющей.
Нет уверенности, что формула, очищенная от подушной составляющей, дает более правильный коэффициент неравенства. Зато теперь можно определенно сказать: каким бы способом мы ни подсчитывали неравенство, мы видим территориальные различия. Баткат уверенно держится на первом месте, а Десятовское хотя бы немного, но отстает от Каргалинского. Теперь уже не остается сомнений в том, что уровень неравенства в разных селениях действительно был различным. Чем можно объяснить разницу между селениями?
Обратимся к спискам населенных мест (ближайшие по хронологии издания – за 1899 и 1911 гг.). Этот официальный справочник приводит для каждого селения перечень важнейших характеристик его экономического положения (табл. 4).
Судя по численности населения и размеру земельных наделов, наши селения существенно не различаются: это довольно крупные поселения; они располагают достаточным количеством пахотной земли. Во всех есть церкви: значит, они достаточно состоятельны, чтобы содержать священника. Не всегда ясно, как соотнести признаки из последнего столбца; что, например, надо считать признаком большей зажиточности селения: одну винную лавку (как в Баткате) или четыре «торговых» (в Десятовском). Казенные винные лавки – то, что создавалось в расчете на прибыль; открывать лавку там, где нельзя рассчитывать на обилие «лишних денег» у населения, чиновники вряд ли стали бы. Постоянно действующая торговая лавка – несомненный признак наличия денег у местных жителей: иначе их нужды удовлетворялись бы развозной торговлей, весьма распространенной в ту эпоху. Наконец, мельницы – явный признак богатства: оценивая перспективы введения подоходного налога в деревне, податные инспекторы переписывали в первую очередь именно мельников и пасечников.
Таблица 4
Экономические и культурные характеристики избранных селений по Списку населенных мест Томской губернии 4 /
Table 4
Economic and cultural features of the chosen villages according to the Settlements list of the Tomsk region
|
Селение, год / Village, year |
Число дворов, шт. / Number of husbandries, items |
Наличные души обоих полов, чел. / Present persons of the both sex, people |
Земля во владении селения, дес. / Land owned by the village, desyatinas |
В том числе пахотной земли, дес. / among that – plowlands, desyatinas |
Культурные и экономические объекты / Cultural and economic objects |
|
Баткат, 1899 / Batkat, 1899 |
128 |
722 |
Нет данных |
Нет данных |
Церковь, сельское училище, хлебозапасный магазин, питейное заведение / Church, village school, bakery store, drinking establishment |
|
Баткат, 1911 / Batkat, 1911 |
151 |
947 |
5 640 |
2 226 |
Церковь, сельское училище, хлебозапасный магазин, казенная винная лавка / Church, village school, bread store, state liquor store |
|
Каргалин-ское, 1899 / Kargalinskoye, 1899 |
130 |
600 |
Нет данных |
Нет данных |
Церковь, приходская школа, хлебозапасный магазин / Church, parish school, bakery store |
|
Каргалин-ское, 1911/ Kargalinskoye, 1911 |
129 |
741 |
4 435 |
1 678 |
Церковь, приходская школа, хлебозапасный магазин / Church, parish school, bakery store |
|
Десятов-ское, 1899 / Desyatovskoye, 1899 |
137 |
708 |
Нет данных |
Нет данных |
Церковь, сельское училище, хлебозапасный магазин, питейное заведение, торжок 29 июня / Church, village school, bakery store, drinking establishment, torzhok 29 June |
|
Десятов-ское, 1911 / Desyatovskoye, 1911 |
130 |
695 |
5 280 |
1 978 |
Церковь, сельское училище, хлебозапасный магазин, 3 мукомольные мельницы, 4 торговые лавки / Church, village school, bakery store, 3 flour mills, 4 trading stores |
4 Составлено по: Список населенных мест Томской губернии на 1899 год. Томск, 1899. С. 18–23; Список населенных мест Томской губернии на 1911 год. Томск, 1911. С. 12–13 / Compiled from: List of populated places of Tomsk province for 1899. Tomsk, 1899. P. 18–23; List of populated places of Tomsk province for 1911. Tomsk, 1911. P. 12–13.
По числу лавок Каргалинское выглядит явным аутсайдером, а Десятовское – рекордсменом. Надо учитывать, что Каргалин-ское находилось лишь в пяти верстах от Батката, и, вероятно, неслучайно они были частью одного сельского общества: можно думать, что баткатские лавки обслуживали оба селения. Эти лавки не указаны в табл. 4, но мы знаем, что они были. По раскладочному перечню 1902 г. в Баткате шести плательщикам была назначена накладка на годовой заработок в размере более 4 руб. При этом сумма надбавки, если вычесть из нее стандартные подушные 3 руб., в любом случае кратна пяти (5, 10 или 25 руб.). За единичным исключением эти шестеро, удостоенные особой прибавки, не пахали землю вообще, имели либо минимум скота (по одной лошади и корове), либо существенно меньше, чем многие другие, «с заработка» которых взималось лишь по 3 руб. Даже единственный из шестерых обладатель значительного хозяйства (18 дес. + 18 голов крупного скота) все-таки уступал по этим показателям другим плательщикам, с которых по разряду заработков брались стандартные 3 руб. (рекордсмены пахали по 30 дес., имея по 25–30 голов скота; они-то и есть крупнейшие налогоплательщики Батката). Ясно, что особые прибавки – это признак наличия либо производства, либо торговли, по какой-то причине не отмеченной списками населенных мест. Даже если часть «богачей» – это пасечники, то хотя бы трое записанных также в раскладочном перечне 1908 г., – скорее всего, торговцы. В Каргалинском же в 1902 г. больше 4 руб. с душевого дохода не начислено никому: торговцев, следовательно, нет. Это логично вяжется с тем, что индексы неравенства в Каргалинском ниже, чем в Баткате.
Отдельный вопрос – как понимать исчезновение винной лавки в Десятовском: то ли чиновники (к которым как раз в это время, вследствие питейной реформы, перешло заведование сельскими питейными заведениями) сочли Десятовское (в отличие от Батката) недостаточно перспективным с этой точки зрения. То ли сторонники трезвого образа жизни в Десятовском победили своих противников (и это повело к сокращению пьянства, а значит, и бедности). Без дополнительных данных нам остается ограничиваться предположениями на сей счет.
Отдельной строкой учтем субъективные впечатления статистика-чиновника С. П. Каффки, собиравшего в начале 1890-х гг. объективные данные о сибирском крестьянстве. В целом статистик оценивал Богородскую и близлежащие волости (за вычетом отдельных селений) как местность довольно однородную, а именно район земледельческой специализации: «Хлеба не только с избытком хватает на продовольствие населения этих волостей, но больший процент урожая ржи, овса и ячменя составляет предмет вывоза на продажу». Из трех наших сел именно Баткат он включал в число наилучших по экономическому положению в Богородской волости [2, с. 16, 102].
Таким образом, хотя наши села оказываются довольно похожими с экономической точки зрения, все-таки Баткат выступает как более денежное село, и это – фактор, сопутствующий более высокому неравенству доходов. Может быть, более важен тот основополагающий вывод, что даже в рамках одной волости индексы неравенства по отдельным селениями существенно различались.
Заключение
Раскладочные перечни не так точно отражают крестьянский доход, как хотелось бы, поэтому, хотя по ходу статьи мы и оперировали цифрами с обычной для работ такого рода точностью (до тысячных долей), при общей оценке имеет смысл огрубить данные до десятых долей. Этого достаточно для того, чтобы оценить место полученных цифр в ряду разных эпох и народов.
Полученные нами значения индекса Джини в целом укладываются в диапазон от 0,3 до 0,5, причем расчет на основе цифр из источника (раскладочные перечни) дает значения от 0,3 до 0,4, а сдвиг интервала на 0,1 вверх (от 0,4 до 0,5) происходит при очистке этих данных от подушевой составляющей податных раскладок. Нет уверенности, какой из двух интервалов (0,3–0,4 или 0,4–0,5) более правильно описывает действительность. В любом случае эти цифры означают, что неравенство в наших селениях оказалось не таким низким, как предполагали некоторые участники обсуждения, и выше, чем в странах, служащих для начала XXI в. эталоном общественной справедливости, но ниже, чем самые высокие показатели, известные экономической истории.
Введение в научный оборот раскладочных приговоров по другим губерниям дореволюционной России может дать факты, дополняющие или уточняющие представленную картину.