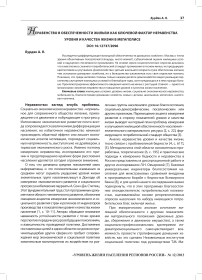Неравенство в обеспеченности жильем как ключевой фактор неравенства уровня и качества жизни в мегаполисе
Автор: Бурдяк А.Я.
Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal
Рубрика: Проблемы жилищной сферы
Статья в выпуске: 12 (190), 2013 года.
Бесплатный доступ
Исследуется дифференциация жилищной обеспеченности домашних хозяйств г. Москвы с точки зрения объективных показателей (площадь, число комнат), субъективной оценки жилищных условий и ощущения стесненности проживания. На основе серии социологических опросов доказано, что в мегаполисе сложился потребительский стандарт проживания в тесном жилье, не продуцирующий мотивов на улучшение. Домохозяйства с детьми школьного возраста хуже обеспечены жильем, чем остальные домашние хозяйства, но у большинства школьников есть своя отдельная комната. Показано, что среди жителей столицы только каждое десятое домохозяйство видит реальную перспективу улучшения жилищных условий в ближайшие годы, хотя нуждающихся в нем гораздо больше. Проиллюстрирована эффективность введения налога на жилье c растущей ставкой - одного из механизмов снижения неравенства и повышения уровня и качества жизни населения.
Жилищные условия, уровень жизни, социально-экономическое неравенство, мобильность, благосостояние домашних хозяйств, семьи с детьми, школьники, мегаполис, налоговая политика
Короткий адрес: https://sciup.org/143181973
IDR: 143181973
Текст научной статьи Неравенство в обеспеченности жильем как ключевой фактор неравенства уровня и качества жизни в мегаполисе
Неравенство: взгляд вглубь проблемы. Социально-экономическое неравенство – нормальное для современного общества явление, приво-дящееего в движение и побуждающее к прогрессу. Интенсивное экономическое развитие почти всегда сопровождается увеличением дифференциации населения, но избыточное неравенство начинает производить обратный эффект: оно лишает экономических агентов мотивации, порождает социальную напряженность, выступая уже не драйвером, а тормозом экономического роста. Именно поэтому измерению неравенства, исследованию его причин и предотвращению крайних форм расслоения населения уделяется сегодня огромное внимание.
О том, что динамика средних показателей мало информативна, и что положительные изменения «в среднем» могут скрывать ухудшение уровня жизни значительных групп населения,пишут в Докладе об измерении экономического развития и социального прогресса нобелевские лауреаты А. Сен и Дж. Стиглиц. Этот фундаментальный труд стал программным документом в области человеческого развития, обозначив смещение акцентов измерения экономического и социального развития стран и регионов от индикаторов производства к показателям уровня и качества жизни населения [1, с. 10–11]. Авторы обращают внимание наважность устойчивости развития с точки зрения перспектив передачи ресурсов будущим поколениям, и взвешенности проводимой политики. Достижение поставленных целей в одних областях не должно при-чинятьущербав других сферах,что требует сопровождения мер экономической и социальной политики комплексным мониторингом их воздействия на раз- личные группы населенияпо уровню благосостояния, социально-демографическим, поселенческим или другим признакам. Перемещение акцента измерения развития в сторону показателей уровня и качества жизни выводит на первый план проблему измерения и улучшения жилищной обеспеченности населения – значительного материального ресурса [2, с. 22], формирующего потребительский стандарт общества [3].
Анализ неравенства уровня и качества жизни, тесно связан с проблематикой бедности [4, с. 617], [5]. Методология в этой области основательно проработана, теоретические [6, с. 195] и практические подходы к измерению бедности и неравенства в России представлены в диссертационной работе и других исследованиях Л.Н. Овчаровой [7]. Базовые универсальные индикаторы благосостояния населения для межстрановых сравнений внедрены в программахпо борьбе с бедностью Всемирного банка [8], и для целей нашего исследования важно подчеркнуть, что в этих программах благосостояние отождествляетсяс потребительской полезностью, оцениваемойна основе репрезентативных опросов населения по набору имеющихся потребительских благ, включая жилье.
При эмпирическом анализе сочетание жилищной обеспеченности с другими показателями материального положения (денежные доходы, сбережения и движимое имущество), а также социально-профессиональным критериеми ин-дикаторомсоциального самочувствиядает возможность провести стратификацию домашних хозяйств, как это сделано Независимым институтом социальной политики под руководством Т.М. Ма- левой [9, с. 42]. Расчеты показали, что для среднего класса жилье является самым дефицитным из материальных ресурсов [9, с. 54]. Другие подходы к стратификации, предпринятые О.И. Шкарата-ном, Н.Е. Тихоновой и их соавторами, отличаясь в деталях, обязательно опираются на материальную обеспеченность, отражая господствующее в обыденном сознании разделение на бедных и богатых, обеспеченных и необеспеченных в первую очередь по доходам и имуществу. Дискуссия о критериях выделения среднего класса в России и их эволюции продолжается, и недавно В.Н. Бобков обнаружил, что при измерении уровня и качества жизни населенияРоссии совместное распределение населения всего по двум показателям – денежным доходам и жилищной обеспеченности – позволяет успешно выделить социально-классовую структуру общества [10, c.5].
Таким образом, решение крайне актуальной для России задачи преодоления избыточного социального неравенства неизбежно упирается в проблему жилищной обеспеченности населения. Многочисленные исследования факторов социально-экономического неравенства (например, серия работ, проведенных в ряде стран под эгидой Всемирного банка, исследования детского фонда ЮНИСЕФ) показывают, что социальноэкономический статус в обществе обладает свойством воспроизводства, и материальное положение родительской семьи ключевым образом влияет на успешность ребенка в будущем [11, с. 436], [12], [13].Это означает, что политика содействия межпоколенной экономической мобильности населения и запуск социальных лифтов могли бы сократитьмасштабы социального неравенства [14, c.69], [15], а самая правильная форма борьбы с неравенством – это инвестиции в семьи с детьми. Выбор данной точки приложения усилий созвучен целям нашей демографической политики и особенно актуален для г. Москвы [16].
Жилищная политика: вчера и завтра. В России сложилась особая модель жилищной политики, отличающая нас и от постсоветских стран, и от развитых стран Европы [17]. Рост доходов населения в 2000-х годах вместе с развитием ипотечного кредитования и интенсивным жилищным строительством дали импульс улучшению жилищных условий населения, если говорить о средних показателях. Снижение численности населения также содействовало формированию данного тренда. Номасштабных и повсеместных улучшений на уровне отдельных домашних хозяйств не произошло. Государственная политика выхода на современные стандарты жилищных условий должна была помочь от 40% до 60% населения, по данным различных источников, нуждающегося в их улучшении.При ограниченных возможностях бюджетов ставка была сделана на поддержку платежеспособного населения, спрос которого был очень быстро исчерпан вследствие роста ценна жилье, в два раза опережающего рост доходов. Потребность домашних хозяйств в улучшении жилищных условий остается высокой, и в качестве одного из вариантов решения предлагается усиление роли государства в жилищном секторе. Существует мнение, что жилищная модель России уже сегодня переходит в новую фазу, из квазирыночной превращаясь в «раздаточную» (термин О. Бессоновой [18, c.220]), и что пора государству снова начать строить жилье эконом-класса и предоставлять его домохозяйствам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, как в советское время. Свидетельством успешности функционирования программ социального жилья в современной мировой практике является жилищная политика Сингапура, и возможности применения похожих принципов в России обсуждались на Московском урбанистическом форуме1.
Ретроспективный анализ показывает, что фактически за 20 лет рыночных трансформаций только очень обеспеченные домохозяйства имели возможность улучшать жилищные условия, что привело к росту неравенства населения по материальноимущественному признаку [19]. Крайне высокое неравенство жилищной обеспеченности обнаруживается при сравнении жителей различных регионов или жителей региональных столиц и мелких городов, и так как определяющимздесь является экономическое положение территории, то к картине жилищной обеспеченности населения как нельзя лучше подходит концепция «четырех Рос-сий» Н.В.Зубаревич [20, c.55–57]. Автор предлагает выделять группы населения не по территориальному принципу, а согласно типам поселений. В концепции «четырех Россий» первая Россия – очень крупныегорода, здеськонцентрируется человеческий и модернизационный потенциал страны, у населения высокие доходы, высокая потребность в жилье, которое недоступно по причине еще более высоких цен на него. Вторая Россия – остальные города, здесь проблема дефицита жилья стоит не так остро, доходы населения и спрос на жилье ниже, но по ценам жильетоже недоступно.В третьей России
– сельских поселениях – на первый план выходит проблема неблагоустроенности жилищного фонда и фактического отсутствия рынка жилья. Четвертой Россией автор называет слабо развитые республики Юга и Северо-Кавказские субъекты федерации. Н.В. Зубаревич доказывает, что вопреки большим географическим различиям, внутри каждой из четырех групп, «четырех Россий», сложились свои уникальные закономерности и происходят очень похожие процессы, что делает эти группы более однородными, чем получается притрадиционной административной разбивкепо субъектам Российской Федерации.
В случае г. Москвы обе классификации совпадают, итак как столица является флагманом институциональных преобразований в стране, мы можем ожидать актуальности результатов данного исследования для других городов-миллионников, или для всей России-1, согласно концепции Н.В. Зубаревич. Однако, следует иметь ввиду следующие отличия. Во-первых, столица является бессменным лидером по недоступности приобретения жилья, и решение проблемы улучшения жилищных условий здесь наиболее сложно. Во-вторых, Москва — это единственный регион в стране, где функционирует раздаточная модель. Город продолжает выполнять социальные обязательства: очередникам и льготным категориям населения, как в советское время, предоставляется бесплатное жилье. Однако, длительный срок ожидания (20 лет на общих основаниях) и незначительные масштабы данной программы явно недостаточны для получения выразительного результата. Также в Москве существует механизм борьбы с крайним проявлением жилищной бедности: семьи, проживающие в крайне стесненных условиях, обеспечиваются жильем, при условии признания их малоимущими. В-третьих, цены на жилье в Москве существенно выше, чем в других городах-миллионниках, что фактически нивелирует значимость материнского капитала(сумма которого в 2014 г. для новичков программы составит 429,4 тыс. руб.) для улучшения жилищных условий. В сложившейся ситуации основная масса жителей столичного мегаполиса вынуждена либо решать задачу улучшения жилищных условий собственными силами, привлекая ресурсы расширенных домашних хозяйств, разменивая или арендуя жилье, либо просто смириться с проживанием в тесноте.
Неравенство жилищной обеспеченности Эмпирической основой данной работы служит ряд социологических исследований, реализованных
Институтом гуманитарного развития мегаполиса2: опрос родителей школьников города Москвы «Образование в мегаполисе: риски большого города» (РБГ), комплексное мониторинговое обследование благосостояния и условий жизни населения «Москва и москвичи-2013» (МиМ-2013), проведенные весной 2013 г.; опрос «Москва и москвичи-2012» (МиМ-2012) и «Комплексное обследование условий жизни московских семей3» (КОУЖ), проведенные в 2012 г.; а также данные Всероссийской переписи населения 2010 г. (ВПН). Данные опроса родителей школьников позволяют изучить жилищные условия этой группы семей, и достаточность подвыборки домохозяйств с детьми школьного возраста в МиМ-2013 (19%) позволяет сопоставить их жилищную обеспеченность с остальными домохозяйствами.
Жилищная обеспеченность москвичей, согласно макроданным Росстата, составила в 2011 году 18,7 кв. м на человека (валовый показатель суммарного жилищного фонда столицы, разделенный на число жителей). Всероссийская перепись населения 2010 г.дает следующую картину жилищных условий домохозяйств разной численности: 32% московских семей живут в однокомнатном жилище, 38% – в двухкомнатном и у 22% семей жилище состоит из трех комнат4. Средний размер домохозяйства, проживающего в одно-, двух- и трехкомнатных жилищах, – 2,0; 2,7 и 3,5 человека соответственно. При этом 92,5% московских домашних хозяйств живут в отдельных квартирах, в их числе 66,3% – это простые семейные ячейки (один или оба родителя с детьми) без других взрослых. По соотношению числа членов семьи и числа комнат только у 43,7% московских семей, состоящих не более чем из 4-х человек, жилище соответствует принципу – по комнате на человека5 (Таблица 1). По Переписи у 23% семей, состоящих из 2–4 человек, число комнат не меньше числа членов семьи. Опрос РБГ дает ровно такую же цифру: только у 23% московских семей с детьми школьного возраста число комнат не меньше числа проживающих. Таким образом, в рамках имеющегося жилищного фонда Москвы с преобладанием двух- и трехкомнатных квартир малой площади наиболее уязвимыми с точки зрения тесноты жилья являются именно большие семьи, в числе которых семьи с детьми.
Неравенство в обеспеченности жильем обусловлено и структурой собственности. В Москве самая высокая среди регионов доля жилья государственной или муниципальной собственности, по этому признаку среди субъектов РФ столица наиболее близка к постсоветским странам [3, с. 105]. Проживающие в государственных или муниципальных квартирах семьи (15%) не имеют возможности улучшения жилья с помощью обмена или купли/ продажи, и с этой точки зрения они наиболее де-привированы по сравнению с 69% семей, которые полностью сами владеют своим жильем. Еще у 5% домохозяйств жилище находится в совместной собственности с другими людьми, не являющимися членами домашнего хозяйства. Проживают в жилище на основе межсемейного обмена, оплачивая только коммунальные услуги, 2% домашних хозяйств; снимают жилье на основе коммерческой аренды 7% опрошенных домохозяйств.
Отличаются ли домохозяйства с детьми школьного возраста с точки зрения наличия жилищной собственности? 71% семей с детьми школьного возраста полностью владеют жильем, в котором проживают; еще 8% опрошенных владеют своим жилищем частично, совместно с другими собственниками; 16% – живут в государственном или муниципальном жилище, 1% – в ведомственном жилфонде. Около 2% данной группы семей живут в квартирах родственников или знакомых, формально не оплачивая аренду жилья, еще 3% семей со школьниками снимают жилье на коммерческой основе. Таким образом, чуть менее 22% домохозяйств со школьниками не являются собственниками жилья, в котором проживают. Вместе с тем, около 15% опрошенных домохозяйств (в том числе 2% семей, не являющихся собственниками своего основного жилья) имеют в собственности другую (вторую) квартиру, часть квартиры, комнату в ком- мунальной квартире6, то есть обладают дополнительным жилищным ресурсом, который, строго говоря, может быть расположен и за пределами столицы. В итоге, с учетом второго жилья, 81% московских домохозяйств с детьми школьного возраста являются жилищными собственниками, и это даже больше, чем в целом среди всех семей – 78%.
Сложные имущественные отношения и право оплачивать коммунальные услуги только по одному адресу зачастую приводят к значительному несоответствию фактического числа проживающих и числа официальных потребителей жилищнокоммунальных услуг. Среди опрошенных (МиМ-2013) совпадение имеет место в 81% случаев7, около 7% платят не за всех членов семьи, и столько же, 7%, платят за большее число человек, а не только за свое домохозяйство (не ответили 5%). Тестирование соответствия количества членов семьи числу прописанных (КОУЖ) показало, что (а) данный вопрос вызывает большое число отказов от ответа (8%); (б) только в 64% домохозяйствах число прописанных совпадает с числом проживающих членов семьи; (в) в поквартирных опросах чаще участвуют домохозяйства, вместе с которыми прописаны, но не проживают другие люди (19%), и реже – те, у которых членов семьи больше, чем прописанных в квартире (9%). В ряде случаев, даже если число совпадает, фактически прописаны и потребляют ЖКУ разные люди. Принимая во внимание проживание подавляющего большинства опрошенных в отдельных (не коммунальных) квартирах, обнаруженные масштабные несоответствия убедительно доказывают невозможность изучения жилищных условий населения столицы на основе административной статистики.
Таблица 1.
Доля домохозяйств разной численности, в жилище которых число комнат не меньше, чем число проживающих членов домашнего хозяйства*
|
Распределение домохозяйств по числу членов, % по столбцу |
Доля домохозяйств, у которых число комнат не меньше, чем число проживающих, % от группы |
|
|
Домохозяйства из 1 чел.** |
23,5 |
88,1 |
|
Домохозяйства из 2 чел. |
27,4 |
58,1 |
|
Домохозяйства из 3 чел. |
24,3 |
26,5 |
|
Домохозяйства из 4 чел. |
15,1 |
4,2 |
|
Домохозяйства из 5 и более человек |
9,7 |
|
|
Все домохозяйства |
100 |
43,7 |
|
Домохозяйства из 2-4 чел. |
66,8 |
23,0 |
Источник: Рассчитано автором по Итогам ВПН-2010.
Список литературы Неравенство в обеспеченности жильем как ключевой фактор неравенства уровня и качества жизни в мегаполисе
- Stiglitz, J.E., Sen, A.K. &Fitoussi, J.-P. (2009) Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
- Бобков В.Н. Неравенство материальных условий жизни населения России // Соцiально-трудовi вiдносини: теорiя та практика,2011.
- Eurofound (2012), Third European Quality of Life Survey - Quality of life in Europe: Impacts of the crisis, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
- Dutta,B. (2002), Inequality, Poverty and Welfare / Chapter 12 in Handbook of Social Choice and Welfare.Vol. 1. Ed. by K.J Arrow, A.K. Sen and K. Suzumura. Elsevier Science.
- Mobility and Inequality: Frontiers of Research in Sociology and Economics (2006) / Ed. by S.L. Morgan, D.B. Grusky, G.S. Fields. Stanford: Stanford University Press.