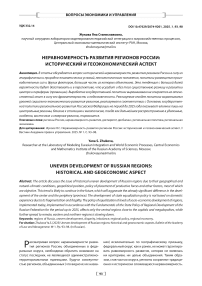Неравномерность развития регионов России: исторический и геоэкономический аспект
Автор: Жукова Я.С.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Вопросы экономики и управления
Статья в выпуске: 1 (82), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждается вопрос исторической неравномерности развития регионов России в силу их географических и природно-климатических условий, геополитического положения, политики размещения производительных сил и других факторов, большая часть из которых объективна. Эта тенденция с большой долей вероятности будет действовать и в перспективе, что усугубит и без того существенную разницу в развитии центра и периферии (провинции). Выработка государственной политики выравнивания не опирается на отечественный опыт в силу его фрагментарности и недолговечности. Реализуемая сегодня политика выравнивания уровней социально-экономического развития регионов, реализуемая в соответствии с Основами государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года оказывает влияние лишь на центральные регионы, близкие к столицам и мегаполисам, тогда как дальнейшее распространение в удаленные, особенно, восточные и северные регионы, тормозится.
Регионы России, неравномерность развития, диспаритет, дисбаланс, региональная политика, региональная экономика
Короткий адрес: https://sciup.org/14132925
IDR: 14132925 | УДК: 332.14 | DOI: 10.47629/2074-9201_2025_1_93_98
Текст научной статьи Неравномерность развития регионов России: исторический и геоэкономический аспект
Forcitation: ZhukovaYa.S. (2025) Uneven development of Russian regions: historical and geoeconomic aspects. Bulletin of the Academy of Law and Management . № 1. Pp. 93–98. (In Russian).
Рассматривая вопрос неравномерности развития регионов России, объединенных в федеральные округа, необходимо обратить внимание на статус последних, не являющихся административнотерриториальными единицами. Будучи совокупностью регионов, объединенных (что видно из их назва- ния) исключительно по географическому признаку, федеральный округ, как и ранее, не может гарантировать равномерность развития, которая не являлась ни критерием, ни целью объединения. Таким образом, став частью округа, регионы сохраняют традиционно и исторически сложившуюся неравномерность.
В экономической, экономико-географической и политологической литературе для обозначения устойчивой разницы в уровнях социально-экономического развития регионов используются разные понятия: «диспропорция» [1], «асимметрия» [2], «дисбаланс» и даже «диспаритет» [3]. В настоящей статье используется нейтральное понятие – «неравномерность», что означает устойчивое наличие разницы в показателях социально-экономического развития.
Вопрос о критериях определения уровня неравномерности подробно рассмотрен в статье В.С. Коренниковой и Е.С. Губановой [4]. Устоявшейся является оценка рассматриваемой неравномерности по совокупности группы основных социальных и экономических показателей: валовому региональному продукту (далее – ВРП) на душу населения (доли в нем обрабатывающей промышленности), инвестициям в основной капитал (на душу населения), в структуре ВРП, динамике численности населения, средней заработной плате и уровню безработицы. Скрупулезный анализ вопроса привел цитируемых авторов к выводу о «сложности явления неравномерности… и отсутствии универсального метода определения… региональных отличий», что дискредитирует сам анализ, цель которого авторами так и не была определена [4]. Исходя из того, что неравномерности и дисбалансы характерны для всех крупных и федеративных государств, их следует признать типичным явлением, которое сложно или невозможно устранить. Именно поэтому не ставится задача «выровнять» развитие Вермонта (ВВП $45,4 млрд) и Калифорнии, ВВП которой почти в 100 раз больше ($4,1 трлн).
Пространственные характеристики динамично увеличивающейся на протяжении нескольких веков территории России, естественно, обуславливали неравномерность развития регионов,различных по географическим, природно-климатическим и иным условиям. Исторически неравномерность развития регионов России начала складываться еще в московский и усугубилась в имперский период.
К началу XX века в Центральном промышленном районе производилось более 80 % продукции легкой промышленности, более 40 % продукции металлургии и металлообработки. Анализируя переход российского капитализма в стадию империализма, В.И. Ленин признавал «катастрофическую неравномерность» государственно-монополистической стадии в целом, равно как и эксплуатацию отсталых экономических отношений на окраинах империи, с которыми шел неэквивалентный обмен для извлечения сверхприбыли [5]. В имперский период сложилась и специализация регионов:на Урале производили чугун, на Черноземье – злаки, на западе и северо-западе страны – лен и др. При этом вопрос неравномерности развития, тесно смыкаясь с вопросом о «цене окра- ин», и сегодня имеет ярко выраженную политическую окраску [6].
В СССР неравномерность развития регионов не только сохранилась, но и усилилась. В европейской части, которая занимала не более четверти территории страны, проживало около 80 % населения, находилось до 80 % мощностей обрабатывающей промышленности, тогда как севернее Ленинграда, Кирова, Свердловска, Омска, Томска, Красноярска, Иркутска, Читы и Хабаровска, то есть на трех четвертях территории, проживало лишь 5 % населения, а промышленность практически отсутствовала (не более 2 %) [7]. И дело было не только и не столько в доминировании так называемой административнокомандной системы, как это принято считать [8], но прежде всего в общих закономерностях размещения производительных сил, связанных с доступом к ресурсам, воде, энергии. При наличии и даже избытке последних факторами торможения промышленного развития за Уралом и на севере страны становился хронический дефицит рабочей силы, а также удаленность от основных потребителей и портов, протяженность логистических цепочек и климат. Таким образом, неравномерность развития российских регионов объективно сформировалась исторически под воздействием географических, природно-климатических и политико-экономических факторов и не была следствием доминирования командно-административной или иной системы.
Сегодня неравномерность социально-экономического развития регионов России обоснованно признается негативным фактором «латентной дезинтеграции и дестабилизации культурного и административно-политического пространства России» [10, c. 811]. С высокой степенью вероятности В.П. Кайсарова и В.М. Жигалов прогнозируют «вероятность образования новых депрессивных регионов в СевероЗападном федеральном округе» – одном из развитых округов [24].
За последние четверть века, достигнув относительной социально-политической стабилизации после многочисленных «попыток интеграции экономического пространства регионов России», в большинстве из них «так и не был сформирован автохтонный потенциал экономического развития [10].
Уже не одно десятилетие высокий уровень дифференциации по ключевым индикаторам социальноэкономического развития оценивается как угроза целостности и безопасности России, ее политическому, социальному и экономическому единству [11].
При анализе неравномерности развития регионов России принято оперировать понятиями «центр» и «периферия» («регионы», «провинция»), где последняя изначально определялась удаленностью от Центра. Сегодня эти понятия получили свои содер- жательные характеристики, которые показывают их место в социально-экономическом развитии.
Так, Центром принято считать не только географически центральную территорию, но и концентрацию политических и управленческих полномочий, а также финансовых и экономических ресурсов. Здесь же реализуются наиболее передовые технологии, которые затем распространяются на периферию, которая в основном потребляет инновации, поставляя ресурсы, кадровый и интеллектуальный потенциал.
Рассматривая неравномерность российских регионов, Е.Г. Казанцева предлагает их дифференциацию – деление на традиционную периферию и на «полупериферию», то есть регионы, близкие к Центру, либо утратившие статус первого, либо уже «выросшие» из периферии [13, c. 4]. При всей условности такое деление сложно в реализации ввиду отсутствия критериев признания региона, соответствующим тому или иному понятию; кроме того, оно вряд ли применимо для научных или управленческих классификаций.
Возможно, «полупериферию» только предстоит создать. Выступая на ПМЭФ-2024, генеральный директор ВЦИОМ В. Федоров озвучил результаты опроса, по которому почти треть населения малых (до 100 тыс. человек) российских городов стремится переехать в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Краснодар [14]. Так, эмпирическим путем четко определилась граница Центра и периферии.
Для науки и выработки государственной политики важно понимание характера их отношений, а также анализа факторов, на них влияющих. Периферия, как полагает B.А. Крюков, «расширяет» экономические границы, стирая, таким образом, географическую удаленность и логистические проблемы. В рамках этой концепции периферия как бы расширяется с востока, где она, применительно к России, традиционно находилась на западе, а также и с юга; движения с севера цитируемый выше автор не отмечает.
Интерпретируя данную концепцию в ретроспективе, отметим, что исторически на периферии (окраинах) шло освоение (включение) новых территорий: вводились общие порядки, формировались социально-экономические уклады и др. Таким образом, постепенно и эволюционно «периферия» превращалась в «провинцию», а затем – в «регионы», из которых шел устойчивый отток капиталов и населения.
В группе социально-экономических факторов, определяющих региональный дисбаланс, исследователи отмечают безработицу, ситуацию на рынке труда, уровень доходов, стоимость жилья, ВРП на душу населения, а также уровень жизни в целом [16; 17]. Кроме того, на ситуацию в регионах влияют природно-климатические показатели, географическое положение [17], а также состояние окружающей среды [18].
Политика выравнивания уровней социальноэкономического развития регионов, реализуемая в соответствии с Основами государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года [19], генерирует импульсы развития, которые, как это было в последние десятилетия, достигают в основном ближайшей периферии. Слабые внутренние связи тормозят их дальнейшее распространение в удаленные, в основном восточные и северные, регионы, где хуже инфраструктура и человеческий капитал [20].
В 2023 году 87 % жителей Москвы и Санкт-Петербурга были удовлетворены качеством жизни и городской средой. Соответствующий показатель Уральского федерального округа – 79 %, Сибирского – 54 %, Дальневосточного – 50 %. На восприятие городской среды влияет, в том числе, и уровень дохода. Здесь ощутима дифференциация. Более состоятельные (80 %) признают состояние среды в основном хорошим для проживания; в группе с низкими доходами этот показатель едва достигает 50 %. Это свидетельствует о том, что благосостояние дает возможность выбора комфортного места проживания. В целом ВЦИОМ делает вывод о «неравном доступе россиян к комфортной среде проживания». При этом основными барьерами называется «низкий уровень дохода и проживание в сельской местности» [21]. Как результат – нарастают миграционные процессы в направлениях периферия > Центр; депрессивные > развитые (центральные) регионы; село > город.
Этот процесс затронул и новые регионы. По данным Росстата, в 2023 году миграционный обмен между Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями и остальными регионами России складывался в форме миграционного оттока, который достиг 87,6 тыс. человек [22]. В основном мигранты выбирали Краснодарский край и Московскую область, а также Крым и Ростовскую область.
Указанные тенденции характерны для многих государств. Для России они опасны запустением обширных территорий.
В условиях информационного общества неравномерность не устраняется. Цифровое неравенство Центра и периферии проявляется не только в технической возможности доступа, которая, в основном, обеспечивается, а в генерации цифровых технологий и инноваций, развитии платформ в Центре, который является как основным производителем, так и основным потребителем цифровых технологий, тогда как удаленные регионы – лишь их потребителями.
Дифференциация регионального развития является как стимулом, так и тормозом экономического развития. Границы неравенства, в пределах которых происходит стимулирование и сдерживание темпов развития, пока определены не во всех сферах. Наиболее проработанной является социальная сфера. В качестве примера можно привести показатель неравномерности распределения доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения, для которого определено пороговое значение в 8 %. При превышении данного значения усиливается социальная напряженность и нестабильность. В Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года [23] установлен целевой показатель пространственного развития «межрегиональная дифференциация индекса человеческого развития по отношению к уровню 2017 года». К 2025 году его значение должно составлять по инерционному сценарию 101 %, по целевому – 97 %. Что касается экономических показателей, то границы дифференциации по ним не определены ни в отношении отдельных регионов, ни в отношении хозяйствующих субъектов.